|
|
|
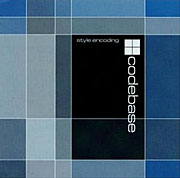
Codebase «Style Encoding» (Force Inc., 2003) Codebase – это молодой житель Сиэтла Том Батчер, по основному роду занятий он программист. Его музыка, как это сегодня принято, живо интересуется техно и электро 80-х годов, в результате получается своего рода нео-детройт-техно. Сухости и жёсткости в ней нет, скорее, это танцы плюшевых медвежат, которые дослужились до высокой должности настоящих роботов. И потому они танцуют. При этом излишней кудрявостью или душещипательностью эти танцы не страдает. По-видимому, именно в этом и состоит достижение композитора. Сам он в качестве программиста некоторое время пытался порождать хитроумные звуковые последовательности, но довольно скоро пришёл к мнению, что они не пригодны для слушания, как и вообще вся экспериментальная музыка.

Vert «Small Pieces Loosely Joined» (Sonig, 2003) Живущий в Кёльне англичанин Эдем Батлер, продвигающий свой проект Vert, выпустил новый альбом на кёльнском же лейбле Sonig. Альбом называется «Бессвязно соединённые друг с другом маленькие музыкальные пьесы». Я поёжился, увидев, что многие рецензии на этот альбом уверяет читателей: «Это не электроника!» То есть это не противно взять в руки. Взять в руки, действительно, альбом Vert-а не противно, но электроники – то есть кривообразного бита и разнообразных странных сопровождающих его звуков - на нём хватает. Vert иногда играет на пианино и аккордеоне в довольно минималистическом стиле, эти пассажи немало способствуют разнообразию происходящего. Но дело, по-моему, спасают не столько акустические инструменты, сколько контраст между последовательными состояниями пейзажа. Музыка часто проваливается в огромные дыры, из которых она выбирается с сильно изменившимся лицом. На концертах Vert-а эти провалы между вспышками активности длинны и интригующи. Есть такие документальные фильмы, в которых по небу очень быстро-быстро несутся облака. А если представить себе, что так же быстро могут строиться и разрушаться дома? Вот построился из палочек и панелей дом, и вот он опять развалился и превратился в пустырь, по пустырю поелозили какие-то тени, и вот опять поползли вверх стены. Если от электроники когда-нибудь останется лишь воспоминание, то очень хочется, чтобы это было воспоминание о музыке проекта Vert.
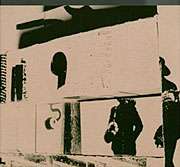
Lithops «Scrypt» (Sonig, 2003) Lithops – это соло-проект Яна Вернера, участника дуэтов Mouse On Mars и Microstoria. Это непростой альбом, это навороченный альбом, это тяжёлый альбом. Сам Ян полагает, что его альбом будет открыт, услышан и оценён много позже. Лишь с течением времени он будет принят к сведению. Мне тоже так кажется. В любом случае, сегодня он воспринимается замысловатой и тяжеловесной кучей, впрочем при многократном прослушивание ощущение кромешного кошмара несколько рассасывается. Музыка пучится волнами синтетического баса, в этих волнах утонули не пережёванные остатки непонятных объектов – от вполне безвредного хруста, звона колокольчиков и стука палкой по кастрюле вплоть до хеви-металлических запилов и барабанного грохота. При некотором усилии можно распознать как бы подразумеваемый бит, а точнее – почти ритмическую судорогу. Это не нойз, не коллаж, не drill-n-bass, это какая-то новая тяжесть и новая непроходимость. Несколько упрощая дело, можно было бы сказать, что мы имеем дело с хардкором Микростории – здесь тот же самый задумчивый, вязкий и иррациональный плыв, что и в Микростории, но сделан он из громких, раздутых и взбудораженных звуков. Мне Ян как-то говорил, что сегодня такое страшное время, что должен возникнуть новый индастриал – только он будет звучать совсем не так как старый индастриал. Я не думаю, что Ян Вернер озаботился оживлением старой торговой марки, скорее, речь идёт о том, что в период крушения иллюзий уместно отказаться от игрушек, или, по крайней мере, сменить игрушки.
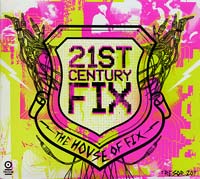
House of Fix «21st Century Fix» (Tresor, 2003) Немало меня смущающее изделие. Это монстр, это нечто необозримое. Это два компакт-диска, до отказа забитые песнями, 37 штук, два с половиной часа музыки! Не менее удивительно и то, что альбомчик выпустил берлинский техно-лейбл Tresor, к песням, как известно, имеющий мало отношения. История этого альбома такова. Лондонский диджей и продюсер Джейсон Лич, действующий под именем DJ Fix издавал на Трезоре свою техно-музыку. Для души однако он со своими приятелями записывал грубо сделанные песни, которые стали в Лондоне своего рода андеграундным культом. Эти записи попали на Трезор, и лейбл решил их издать. Представлены три проекта Дома диджея Fix-а. Самый с моей точки зрения интересный – дуэт Circa с певцом Китом Маккеем. Его музыкой заполнен первый CD, по стилю – халатно записанный техно-фанк-панк. Он очень много что воскрешает в памяти – от Queen до Beastie Boys, но чаще всего - ранний хип-хоп- и электро-саунд. Второй CD звучит куда более сделанно и вылизанно. Он куда ближе к обычному техно и электроклэшу, стильный вокал на нём пропущен через фильтр... в общем, мне второй CD (проекты Carrion Crow и Royal Blood) интересным не показался. Первый же, повторяю, крайне любопытен. Конечно, это типично британские песни, «типично британская музыка». Но ей свойственна исчезнувшая в последние годы развинченность и беззаботность. По ней слышно, что её делали энтузиасты с горящими глазами. Комбинация всеядности, с одной стороны, и скудности средств, с другой, тоже очень приятна. Возникает странный апокалиптический эффект – как будто наступили времена после конца света, и сегодня уже не имеет особого значения ни то, что было раньше, ни то, как именно оно тогда звучало. Нам не красота нужна, а мясо.
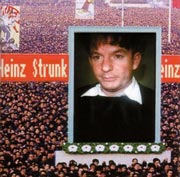
Heinz Strunk «Einz» (Nobistor – Studio Braun Produkte, 2003) House Of Fix наворотили несколько десятков самодельных и диковатых песен, они молодцы, а вот человек сделал всего одну песню. И он тоже, тем не менее, молодец. Сложно сказать, что такой Хайнц Штрунк, проживающий в Гамбурге, – песни он пишет, конечно, тоже, но главным образом он – антиэнтертейнер, мастер дебильного шизофренического юмора, аутентичных потоков помутнённого сознания. Пьеса Горького «На дне» в театре абсурда при областном дурдоме. Альбом полон скетчей, коллажей и мини-театральных пассажей, где автор говорит, мычит и бредит от имени очень-очень простых людей, людей, которые жизнь, конечно, знают и смотрят на неё внимательно, но - снизу. Всё это на соответствующем жаргоне и с точно взятыми интонациями. И с огромным количеством странных деталей – типа «глазных сосисок». Есть на альбоме и песня под названием «Computerfreak». Речь в ней идёт о компьютерном психе, насмерть приклеившемся к экрану. Под тупую, плоскую и звонкую компьютерную музыку Хайнц Штрунк заикаясь, спотыкаясь, ускоряясь и забывая слова, проборматывает текст. Эта уникальная в своей простоте и убедительности песенка произвела настоящий фурор, появилась масса ремиксов.

Pole «45/45», «90/90», «Pole»(Mute, 2003) Два недолгоиграющих CD берлинского проекта Pole, вышедшие в этом году на британском лейбле Mute, были наконец объединены в одном долгоиграющем. Это уже пятый альбом проекта. На нём отсутствует характерный треск, издававшийся сломанным фильтром и, собственно, давший название проекту. Этот треск был своего рода торговой маркой Pole, немало поспособствовал он и развитию саунда clicks’n’cuts. Новый саунд Pole чист и могуч. Некоторые вязкость и плывучесть ему всё ещё свойственны, но в целом мы имеем дело с медленным хип-хоп-битом. Хип-хоп – это не случайный эффект, а новое направление движения, Штефан Бетке – шеф предприятия - даже в одном треке интегрирует в свой саунд рэп толстого американского малого по имени Fat Jon. Появился и живой акустический бас и в паре мест – саксофон. Но самое главное изменение, на мой взгляд - это всё-таки, как говорят, «жирный бит» (fat beat). Раньше музыка Pole ползла вперёд, обходясь без буханья. Штефан в своих интервью высказывается в том смысле, что заставлять хорошую аппаратуру звучать намеренно некачественно – это бред. Ему надоело шуметь и скрипеть. А хип-хоп почему? А потому, что грув. Кроме того, в хип-хопе в настоящее время происходит много интересного. Всё это верно. Но меня не покидает ощущение, что новая музыка Pole – это музыка заматеревшей электроники, электроники, которая безнадёжно повзрослела и стала серьёзной и профессиональной. Да, у Штефана Бетке отличные приборы, они отлично звучат, бас у него отличный, и брейки его что называется «сидят»... но начисто исчезли загадочность, непредсказумость, неопределённость музыки, какое-то щемящее чувство одиночества, пустоты и неуверенности, которое наполняло первые альбомы Pole.
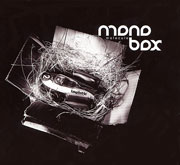
Monobox «Molecule» (logistic, 2003) За проектом Монобокс скрывается детройтский техно-продюсер Роберт Худ. Он ветеран и классик. Именно с альбома Роберта Худа «Minimal nation» в Европе начался бум вокруг минимал техно. Несмотря на лаконизм его треков, они не теряют грува. Но что меня немало смущает, если не сказать раздражает – так это бесконечное повторение событий в треках Роберта Худа, это настоящее повторялово. Конечно, не сложно догадаться, что автор именно такой маниакальный эффект и имел в виду. Собственно, классик-то имел в виду нано-технику, то есть устрашающе крошечных роботов, которые строят крошечный город. Да-да, эта музыка осмысленна, у неё есть программа, и в любом случае – картинка, которую можно себе представлять. Я же не могу отделаться от ощущения, что Роберт Худ – сам того, по-видимому, не желая – снабдил нас картинкой минималистического тоталитаризма. Вообще, все эти утопические города будущего, царства машин, мир, функционирующий по законам гармонии – всё это, как известно, модели именно тоталитарных обществ.
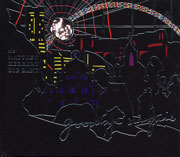
Matthew Herbert Big Band «Goodby swingtime» (accidental, 2003) У этого проекта есть две составляющие – политическая и акустическая. Сам Мэтью Хэрберт утверждает, что они тесно друг с другом связаны. По его замыслу это политический альбом. Речь идёт о терроре потребления, об изготовлении и навязывании обществу всё новых и новых продуктов. Но производство даже простых вещей – вроде пластиковых бутылок для минеральной воды и шире – любых пластиковых упаковок – предполагает переработку нефти. А нефть предполагает войну. То есть война в Ираке велась и для того, чтобы не иметь дефицита в пластике для упаковки товаров. На альбоме можно услышать треск принтера Epson, который изготовлен с применением детского труда в Таиланде. На альбоме есть звуки, сопровождающие загрузку интернетовской страницы, на которой публикуется информация об деятельности и услугах американских солдат-наёмников – то есть фактически легальных террористов. На альбоме есть звуки швыряемых об пол телефонных книг – это акция протеста. На альбоме есть шумы, записанные в окрестностях студий, в которых записывался альбом – это должно говорить, что альбом неразрывно связан с нашей жизнью. Иными словами, и тексты песен, и звуки, эти песни сопровождающие, осмыслены и неслучайны. Но при этом сами песни протеста неожиданным образом звучат как американский оркестровый джаз довоенной эпохи. В них речь идёт далеко не о любви, но звучат они как настоящие Love Songs. Зацикленные звуки естественного происхождения вполне различимы – они образуют партию ударных, собственно, на них вся конструкция и держится. И ты понимаешь - перед нами вполне узнаваемая минималистическая электроника, снабжённая звуками застёгнутого на все пуговицы джазового оркестра. Сходство с джазом обманчиво – нет ни импровизаций, ни джазовой лёгкости. Похоже, это вовсе и не оркестр, а наложенные друг на друга партии отдельных инструментов, часто кажется, что музыканты не слышат друг друга. Электроника формальна и суха, оркестровые аранжировки поп-песен 70-летней давности тоже формальны и сухи, и потому они неплохо друг к другу подходят. Эта музыка рождена, чтобы быть мёртвой.
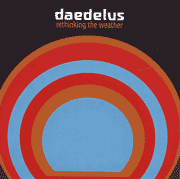
Daedelus «Rethinking The Weather» (Mush, 2003) Вокруг музыки Мэтью Херберта чуть-чуть было не возник настоящий хайп, пошли хвалебные статьи и длинные интервью... но очень быстро волна спала. Альбом Мэтью Херберта во многих отношениях грандиозен, он явно замыслен как «большой альбом», как серьёзный монументальный проект, что конечно можно только приветствовать. Мэтью полгода работал над партитурой, в записи приняли участие 20 лучших джаз-музыкантов Великобритании. Беда не только в том, что биг-бэнд Мэтью Херберта болен болячками несерьёзных и немонументальных проектов, но и в том, что в нём не возникает магии... Мэтью Херберт звучит не лихо и не классно. Вот для сравнения проект Daedelus. Это явно не «большой альбом», но звучит он куда более лихо, непосредственно и бесстыже, чем музыка Мэтью Херберта. Разумеется, это вполне знакомая лихость и вполне знакомое бесстыдство: хип-хоп-грув, семплированные пассажи из оркестрового китчевого попа 50-летней давности, голоса детей и взрослых из лживых радиопостановок и тому подобные вещи. Easy listening эпохи всеобщего малоумия и грува.
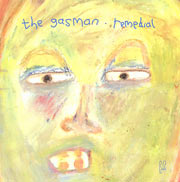
The Gasman «Remedial» (planet mu, 2003) Треки можно приблизительно разделить на две группы: в первую входят быстрые и судорожные. Они воскрешают в памяти движения ног поблёскивающего чёрной металлической поверхностью гигантского насекомого. Бит крайне любопытен, звуки исключительно синтезаторного происхождения, всё в целом напоминает детские песенки, исполненные электро-симфоническим оркестром, а затем ускоренные раза в три. От этого стук игрушечного барабана сливается в трель. Быстрые треки сменяют медленные, протяжные и смазанные, и при этом совсем недлинные. Я долго пытался догадаться, что бы это всё вместе значило, пока не увидел название одной из композиций – «Horses on ice», «Лошади на льду». И всё встало на свои места. Быстрые треки – это лошади, а медленные и перламутровые – это, соответственно, лёд. Лошадей много, а льда – мало.
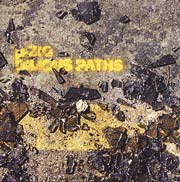
mu ZIG «Bilious Paths» (planet mu, 2003) Альбом хозяина лейбла Planet Mu Майка Парадинаса, а точнее его проекта mu Zig. Майк Парадинас выпускает музыку уже более 10 лет, Майк Парадинас – приятель Aphex Twin-а и Squarepusher-а. Hrvatski тоже бродит неподалёку. Не удивительно, что мы имеем дело с изрядно перекрученной и переломанной музыкой, наследницей того, что пару лет назад гордо звали idm, а десять лет назад - хардкором. Молотилка, запутавшаяся как моток колючей проволоки. Временами она неожиданно прерывает свой поток, замедляется или как резинка растягивается, а потом столь же неожиданно стартует из-за неожиданного угла. Всё это звучит вполне виртуозно... и я чуть было не добавил – «и совершенно бессмысленно». И поймал себя на том, что в этом я как раз и не уверен. Мне показалось, что Майк Парадинас не просто занимается нагромождением декоративных ритмических завитушек и арабесок, но пытается при этом нечто выразить, придать каждому треку какой-то характер, некоторую индивидуальность, лицо и душу. Задумчивый романтик на огромном тракторе утрамбовывает и перемещает с места на место завалы пёстрого мусора, пластиковых бочек, разбитых автомобилей. Он не просто хочет их двигать взад-вперёд, а художественно расположить, чтобы они что-то выражали, чтобы они о чём-то рассказывали. У него это почему-то не очень получается. Однако он не теряет надежды.

Kazumasa Hashimoto «Yupi» (plop, 2003) Милое японское благозвучие. Кажется, японцы впереди планеты всей в сфере комбинации электронного саунда и звуков акустических инструментов, в сфере изготовления тотального акустического дружелюбия. Кажется, для японцев не составляет проблемы задействовать массу инструментов, сочетать виолончель, трубу и огромный гонг. Или вибрафон, фортепиано и голос. Или электроорган, колокольчики и скрипку. В каждой пьесе набор инструментов – свой. Возможен и сдержанный нойз, и даже пущенная в обратную сторону запись. Всё возможно. Всё, кроме движения и конфликта. Фокуса и полюса нет. Нет и мелодий – скорее, гаммы, то есть последовательности нескольких нот. Музыка колышется длинными волнами и остаётся весьма статичной. Длинные пьесы собраны в группы, их разделяют маленькие треки буквально по 50 секунд длиной. Всё в целом говорит: «Мы усвоили, что такое эмбиент и минимализм, а в душе мы по-прежнему любим инфантильный поп и саундтреки к детским мультфильмам, у нас хороший слух и мы не желаем никому зла». Это прекрасный фундамент для занятий современной музыкой.
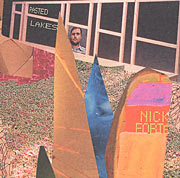
Nick Forte «Pasted lakes» (Schematic, 2003) Альбом жителя Бруклина Ника Форте длится 33 минуты и имеет странную структуру: его открывает настоящий большой, многослойный и по замыслу – монументальный трек. Безжалостно порубленные в мелкую крошку брейки тем не менее сохраняют напористое движение вперёд, вокруг разрастается стена копошащегося саунда. Мощная поступь пост-дигитальной весны. Но за первым треком – как цыплята за курицей - следуют короткие одно-двухминутные мини-композиции, устроенные просто и прозрачно. Ник Форте по его собственным словам вдохновлялся ранними альбомами таких панк-групп как Wire и Minutemen, не столько их саундом, сколько подходом, последовательностью и принципиальностью. Музыка Ника Форте, несмотря на всю её пост-дигитальность, не теряет напряжения и уверенности в ценности именно прямолинейного движения вперёд. А то обстоятельство, что она каждый раз обрывается на полуслове, говорит: можно было бы и дальше, но дальше ничего нового не произойдёт, потому будем честными и ограничимся тем, что есть, этот поток – фиктивен, его прервать очень просто.
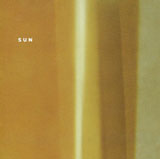
Sun (Staubgold, 2003) Австралийский дуэт Sun. Никак не названный альбом выпущен с недавних пор берлинским лейблом Staubgold, вообще-то заведующим более-менее минималистической электроникой. В состав дуэта Sun входят Орен Амбарчи и Крис Тауненд. Странность этой музыки в том, что этот медленный кантри и вестерн-поп записал гитарист-импровизатор, гуру еле слышной и никуда не двигающейся музыки Орен Амбарчи. Никакой иронии здесь нет, в виду имеется настоящая проникновенность, неяркая эмоциональность и за-душу-берущесть. Настоящие песни настоящих мужчин настоящего заката в настоящей пустыни. За крайне разреженной кантри-гитарой слышны электронные булькающие звуки – тоже мягкие и милые. Как я понимаю, именно ими распорядился Орен Амбарчи. Но мне всё равно не повезло: меня эта музыка в мечтательное настроение не ввергает, наверное, дело в том, что в детстве я не мечтал стать одиноким ковбоем, а в зрелом возрасте слова «звуки пустыни» стали ассоциироваться совсем с другим саундом. К альбому приложен ещё один CD – ремиксов, но они общего унылого впечатления не спасают.

World Standart & Wechsel Garland «The Isle» (Blues Interactions, 2003) Выпущенный в Японии совместный альбом японца World Standart (Сохиро Сузуки) и немца Wechsel Garland (Йорг Фоллерт). Идея совместной работы оказалась нереализуемой, Йорг хотел работать совместно, Сохиро - быстро (потому название «Остров» - имеется в виду остров встречи представителей двух разделённых океаном миров – оказалось благим пожеланием, если не явным обманом). Йорг захватил инициативу в свои руки, половина треков – его музыка, остальное – его обработки и дополнения безынициативных последовательностей гитарных аккордов, присланных японским коллегой. Японцы, однако, на этапе мастеринга перехватили инициативу и сильно откорректировали звук – сделали его звонким и гладко-дигитальным. В результате более чем года усилий получилась мелодичная инструментальная музыка, сыгранная на акустических инструментах. Особенно любопытны барабаны в треках Йорга – это картонные коробки и отдельные тарелки, настоящее картонное громыхалово и бухание в медное корыто. Между инструментами много воздуха, ощущения компактно играющего оркестра не возникает. К сожалению, после мастеринга эффект самодельности сильно ослаб.
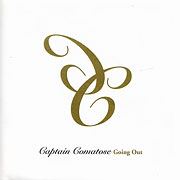
Captain Comatose «Going Out» (playhouse, 2003) За именем Captain Comatose скрываются два опытных в секвенсорно-ритммашинной музыке человека: Кан (Can или Khan) и Снекс (Snax). До недавних пор они жили в Нью-Йорке, а теперь переселились в Берлин. Снекс – странноватый энтертейнер, Кан – хозяин массы проектов, ветеран техно, хауса и электро 90-х, наверное, проще сказать: ветеран 90-х. Их проект Капитан Коматоз – это непротивный и к тому же вполне танцевальный хаус с вокалом. На электроклэш не очень похоже – музыка вовсе не холодна и не отстранённа. Ритм остаётся прямым, бас пучится тёплым холмом. Вещь, сделанная просто и прочно, диско, конечно же, очень чувствуется, но чувствуется именно что в качестве дальнего родственника, никакой ретро-имитации здесь нет. Всякого рода мелкие декоративные завитушки практически ограничиваются вокальной партией, которая привносит лёгкий дух то рокабилли, то соула, то Дэвида Боуи. Поющий голос не виртуозен и не манерен. Если меня сейчас попросили бы привести пример «современной танцевальной музыки, не отталкивающей в первые же десять секунд своей лживостью и фальшью», то я радостно бы закричал: Капитан Коматоз!
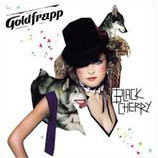
Goldfrapp «Black Cherry» (2003) Это уже второй альбом британского дуэта и на первый – «Felt Mountains» – он совсем не похож. Первый был лёгкий, открытый, панорамный, эфирный и довольно холодный. Похожий на полёт на вертолёте над горными вершинами. Ангельский голос Элисон Голдфрэпп был голосом разреженного горного воздуха. Приглушённый бит, однако, не мог скрыть своего родства с маршем, поэтому в первом альбоме дуэта мне увиделся шпион эпохи середины 80-х, замаскировавшийся под посттрипхоп-саунд конца 90-х. Новый альбом на первый взгляд знаменует разрыв со старым стилем. При этом участники коллектива утверждают, что в принципе это то же самое, что и раньше, изменилась относительная громкость звука отдельных дорожек, а также из-за того, что стали доминировать грув и бит, исчезла панорама: горный пейзаж сменился узким коридором. Новый альбом – это электро-диско. Именно дискотека оказывается местом, где сбываются или разрушаются мечты. Элисон говорит: «Диско-драма 70-х годов – это, так сказать, специальная сфера моих интересов: китч, декаданс, радостная поверхностность». Голос Элисон Голдфрэпп остался тем же самым далёким, ангельским и хрупким – только я совсем не понимаю, как кто-то может его счесть эмоциональным. Мы ведь явно имеем дело с манерой, маской, даже - униформой. И диско-музыка совсем не весела и не легкомысленна, это какое-то милитаризированное диско. Goldfrapp - неземной ангел изрядно механизированных злачных мест.

Ladytron «Light & Magic» (2002-03) Если дуэт Goldfrapp не очень уверенно ищет ретро-электро-саунд и, кажется, оставляет за собой неприкрытую дверцу, чтобы было куда улизнуть, музыка британского квартета Ladytron стилизована так, что дальше некуда. И назад тоже никак нельзя. Музыка Ladytron похожа на наряженного, накрашенного и поставленного на высокие котурны актёра японского театра Но. Двигаться он может с трудом, да и некуда ему двигаться, но в качестве зрелища – он потрясающ. Во всех отношениях неестественный монстр, но с живыми глазами. В смысле музыки Ladytron являются вопиющими представителями стиля электроклэш, правда, музыканты утверждают, что не имеют к нему никакого отношения. Никто, конечно, им не верит. Ladytron – необычайно модный коллектив, объект настоящего хайпа, то есть безудержного восторга в заботящихся о своей модности средствах массовой информации. Чудо ретро-поп дизайна. При этом сонграйтер коллектива Дэниел Хант утверждает, что современный дизайн вовсе не является искусственным воссозданием модных форм 20 летней давности. А чем же он является? Он является просто... дизайном. То есть долгое время вокруг нас не было вообще никакого дизайна – ни в мебели, ни в предметах быта, ни в одежде, ни, надо понимать, в музыке. А старый дизайн воспринимался как особый стиль – так называемый «стиль космического века». И вот сегодня Ladytron не столько обращаются к старому стилю, сколько просто занимаются созданием лаконичных и выразительных форм, которыми и отличается хороший дизайн. И ретро-футуристический эффект возникает сам собой, просто потому, что все вещи, сделанные с качественным дизайном, в каком-то смысле друг на друга похожи и сильно отличаются от всего остального. Квартет Ladytron играет – из принципиальных соображений – исключительно поп. При этом жёсткий бит, аналоговые синтезаторы, редкие гитары, статичные позы, униформа, напоминающая униформу китайских коммунистов, общий дух Крафтверк, вообще, жёстко выдержанная (дизайнерская) линия, как оказывается, вовсе не самое главное. Главное – поп-песня. Дэниел Хант говорит, что никто не помнит, что «Drive my car» The Beatles – это неудачная попытка Пола Маккартни написать что-то в духе ска с Ямайки. Все помнят эту песню, просто как «Drive my car». Поэтому секрет удачной песни вовсе не в её стилизации. А в чём же? Тотальный дизайнер Дэниел Хант полагает, что существует универсальный рецепт успешного поп-номера. Он его определяет как комбинацию грустного и радостного. Скажем, такую: моторный бит, электронный тембр, нойз, давилка – это позитивный момент/радость, минорная мелодия – это грусть/тоска. Тут фокус в том, что минорная музыка вовсе не опознаётся слушателем как грустная: скажем, песня «Venus» (как и все остальные песни) хиппи-коллектива Shocking Blue минорна и тосклива, но сыграна как радостная и зажигательная. Дэниел однозначно определяет, откуда идёт такое отношение к песне, в которой спрятана минорная грусть – из Восточной Европы, даже – из иддиш-музыки, из еврейского фольклора.

Console «Reset The Preset» (Virgin, 2003) Ladytron признают, что ориентиром и источником вдохновения в непростом деле нового электро-попа (он же электро-рок) являются многочисленные немецкие проекты. Скажем, такой как Console. Console попал под крыло гиганта Virgin и выпустил двойной компакт-диск «Reset The Preset» - что можно примерно перевести как «Переустанови набор параметров», чувствуется лёгкий намёк на новое начало. Один диск – инструментальный lo-fi-эмбиент, другой и, по-видимому, главный - электро-поп-рок. В принципе, получилось то, что сегодня называют электроклэшем: минималистический, не лишённый шумности электро-саунд плюс холодный и какой-то нерешительный девичий вокал. Отличия в деталях. Не так уж холоден и заторможен голос певицы, барабаны очень похожи на тупой стук ритм-машины, но это живые барабаны. Маньеризма, китча и глэма нет. Если по Ladytron видно и слышно, что они прикладывают нечеловеческие усилия, чтобы поддерживать себя в своём электро-поп-оцепенении, то Console звучат легко и естественно, без особого напряжения. Не очень зажигательно, но довольно прочувствованно. Искусственности в них совершенно нет. Console – это проект Мартина Гречмана, долговязого длинноволосого типа в очках в толстой чёрной оправе. Одновременно Console – это группа из четырёх человек: гитарист, клавишник, барабанщик, певица – её, кстати, зовут Мириам Остерридер. Console относятся к конгломерату групп Lali Puna, Notwist, tied + tickled trio. Барабанщик Console стучит в Lali Puna, а сам Мартин Гречман – участник Notwist. Живая певица – это недавнее приобретение. Раньше Console использовали голос, синтезированный компьютером. Гитар тоже не было. Мартин Гречман, впрочем, говорит, что дома слушает исключительно гитарную музыку, а в юности был фэном Slayer.
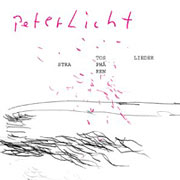
PeterLicht «Stratosphärenlieder» (Modul/BMG, 2003) Немецкий проект PeterLicht – ПётрСвет – загадочен оттого, что никто якобы не знает, кто за ним скрывается. Вроде бы, это художник, который живёт в Кёльне. Пару лет назад в момент выхода дебютного альбома автор музыки предъявлял себя на фотографиях и в видеоклипах в виде стула-кресла. Новый альбом – смена имиджа, сегодня PeterLicht – это картофелина с булавками вместо рук-ног. Впрочем, на некоторых фотографиях он покрывается булавками как ёж. Это похоже на Мерилина Менсона. В качестве промо-кампании фирма грамзаписи рассылала картофелины, иголки и руководство по сборке музыканта.... это покруче будет, чем Мэрилин Мэнсон. Музыкант рассказывает, что картофель – это не только его комментарий к состоянию шоу-бизнеса, но и вуду, а также объяснение в любви к своей родине, потому что картофель – самый немецкий из всех овощей, это настоящее немецкое дело. Альбом называется «Песни из стратосферы». Тексты немутные и непретенциозные, слегка абсурдные и бессвязные, но в целом милые. Да, вот человек проживает свой день в мире вещей – среди травы, дыхания машины, небоскрёбов, красных облаков, стратосферы, ла-ла-ла-ла... Голос – как у актёра, изображающего мальчика в радиотеатре, песни – как будто их действительно сделали дома на компьютере, необходимого минимума звуков они не переступают. Музыка неплохого, честного и дружелюбного человека, у которого всё в жизни прекрасно, и которого навороченная музыка интересует не больше, чем чёрная магия. Его песенки – как рисунки в тетрадке старшеклассника-отличника. Можно было бы сказать, что, наконец, наступила счастливая пора, когда каждый, у кого в голове завелась незатейливая мелодия, имеет возможность её материализовать. Но дело в том, что шлягеры типа тех, что материализовал PeterLicht, сами собой в голове не заводятся. А домашний компьютер всегда искушает массой возможностей и перспектив. Поэтому мне песни, которые делает PeterLicht, кажутся жестом самоограничения и отказа от ненужных возможностей и путей.

Autechre «Draft 7.30» (Warp, 2003) Заглянув в рецензии, можно убедиться, что Autechre – не иначе, как гении, а их новый альбом – столь же гениален, как и лучшие из предыдущих, это «очередной краеугольный камень из чистого гранита». Оценить его по достоинству мы, правда, сейчас не сможем, потому что очень далеко ушли от нас Autechre в своём понимании музыки. Почитав интервью с музыкантами, я узнал, что предыдущие альбомы были, как они выражаются, «результатами тестирования компьютерных программ», новый сделан программами известными, и в нём больше ручной работы. Кроме того, Autechre утверждают, что их музыка – как, впрочем, и всякая музыка - базируется на формальных законах математики и геометрии. Участник дуэта Шон Бут говорит: «Существует традиционное деление на мелодию и ритм, для нас этой оппозиции нет. Всё базируется на колебаниях и повторениях этих колебаний. На этом базируется мельчайшая музыкальная единица – тон. С ритмом и гармонией – то же самое. Ритм – это повторение некоторого пассажа, гармония – повторение последовательности тонов. Подо всем лежит один и тот же принцип. И когда ты однажды познал этот принцип, ты можешь в рамках этой системы всё реализовать. Потому что всё это – одно и то же». Собственно, так музыка Autechre и звучит. Не очень интересное и довольно вялое спотыкание, что-то вроде бы постоянно происходит, но это фикция, на самом деле ничего не меняется, да и не хочет меняться. Музыка, лишённая воли и направления. Разнообразие одного и того же. Это примерно то же самое, чем Autechre занимались несколько последних лет, только спутанная сетка ритмических заграждений стала несколько проще и часто можно опознать, что исходным материалом для трансформаций были хип-хоп-брейки. Меня ужасно изумило, что на этом незаинтересованном в себе альбоме всё-таки есть один более-менее выразительный и напряжённый трек – его номер пятый, он идёт одиннадцать минут и называется «Surripere». «Выразительность и напряжённость» начинаются где-то во второй его половине, когда из-за поломанных рёбер бита (это модификация одного и того же брейка, идущего от начала и до конца трека), начинают появляться редкие звуки «иного происхождения», они которые создают ещё один неплотный ритмический слой. Возникает своего рода контрапункт. Редкие наплывы «иных звуков» вдруг придают смысл бит-частоколу на переднем плане, частокол на них как-то реагирует. Это не революционно, но, по крайней мере, осмысленно.
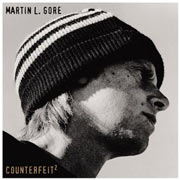
Martin L. Gore «Counterfeit 2» (Mute/EMI, 2003) Альбом каверверсий, которые записал и спел Мартин Гор – главная движущая сила небезызвестных Depeche Mode. Его второй сольный альбом называется «Подделка 2» и является продолжением первой Подделки, вышедшей в конце 80х. В некотором смысле альбом отвечает на вопрос, который многие себе задавали в последней трети 90-х: почему Depeche Mode не видят того, что вокруг них происходит? Даже того, к чему они, казалось бы, имеют непосредственное отношение? Даже минимал техно они не замечают! И как они могли бы звучать, выйди они из-за своей стены? И вот загадка разрешена, оказалось, что Мартин Гор всё заметил, немецкие минимал техно и электро-поп ему хорошо известны, выступая в качестве диджея, он эту музыку как раз и заводит. Его собственный альбом выдаёт не только знакомство, скажем так, с современным саундом, но и желание сгустить этот саунд, сделать его более сложным, более выразительным, более психологичным. Голос самого Мартина на этом фоне звучит тонко и невыразительно. Искусственно зачатой музыке его манера, пожалуй, соответствует, а песням – нет. И возникает странный эффект – кажется, что Мартин Гор не понимает, о чём поёт. Не важно, что именно он поёт, не имеет это никакого значения, хотя песни выбраны судьбоносные. Заметно это уже на первой песне альбома – старом блюзе «Когда я умру», а на немецкоязычной «Песне об одинокой девушке» это становится просто скандальным. Эту песню пели Нико, Марлен Дитрих и Хильдегард Кнеф. Драматизм холода и отчаяния, казалось бы, должна присутствовать. Но её нет. Есть аккуратно выговоренная мелодия, есть грамотно спродюсированная электронная музыка. В этом, мне кажется, и состоит замеченная многими меланхолия альбома – грустно быть неадекватным.
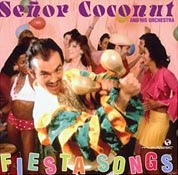
Senor Coconut «Fiesta Songs» (Multicolor/Intergroove, 2003) Новый альбом проекта Senor Coconut – это тоже сборник каверверсий. Senor Coconut – это виртуальный латиноамериканский оркестр, вышедший из головы и компьютера немецкого продюсера Уве Шмидта, известного массой своих проектов. Уве Шмидт уже несколько лет живёт в Сантьяго-де-Чили, и наряду с футуристическим электро публикует под псевдонимом Сеньор Кокосовый орех странноватую музыку, которая звучит как латиноамериканская ретроэстрада конца 60-х, но понимает себя как манифест нового отношения не только к семплированию, но и к музыкальной традиции в целом. Что касается технологии, то на записи присутствуют звуки синтетические, звуки, позаимствованные со старых грампластинок, и звуки, вновь записанные вполне дееспособными музыкантами. На новом альбоме симулируется звучание 23-голового оркестра. Известные интернациональные хиты – как скажем, «riders on the storm», «smooth operator», «smoke on the water», «beat it» и даже «oxygen», сыгранные в стилях чачача, мамбо и меренге, соседствуют с латиноамериканскими стандартами. Идея, как я понимаю, состоит в незаметности перехода между первыми и вторыми. Новое отношение к музыкальной традиции у Сеньора Коконата состоит в том, что эта музыка, относясь технически к одним из самых сложных явлений электроники, не имеет никакого отношения к «фетишизму неостановимого прогресса», как выражается её автор. Она стремится не в плоское будущее, а к высоким вершинам, большая часть которых лежит, очевидно, в прошлом. В пресс-релизе процитирован Сан Ра: «Меня не интересует будущее, меня интересует вечность». Это не то, чтобы прямо панк лозунг «Будущего нет!», сколько, скорее, «Нам будущего и не надо!», «Мы не приговорены к будущему». Идею освобождения музыки от необходимости стремиться в будущее можно только приветствовать, но вот что касается самого альбома, то на мой вкус он звучит несколько неповоротливо и заученно. К сожалению, тонкостей аранжировок я оценить не в состоянии – то есть я не способен из общего потока ударных на слух выделить бонги, на которых играет именно Тито Пуэнте, я не слышу, что ко вновь записанной трубе подмешаны звуки, которые принадлежат легендарному Тито Родригесу... То есть я слушаю эту музыку очень грубо настроенными ушами, упорно спрашивающими, что здесь новенького? что здесь странного? и что здесь интересного? Пожалуй, самое интересное заключено не в самой музыке, а в её идее. Скажем, оказывается, композицию «Oxygen» написал вовсе не Жан Мишель Жарр. Он её позаимствовал с какого-то саундтрека экзотического фильма 50-х годов. И вот сегодня Senor Coconut отнимает у электронной музыки 70-х эту композицию и возвращает её домой. И показывает, чем на самом деле была история электронной поп-музыки.
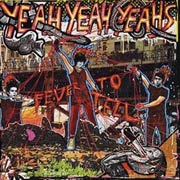
Yeah Yeah Yeahs «Fever to Tell» (Polydor/Universal, 2003) Любопытно, что музыка нью-йоркского трио Yeah Yeah Yeahs - тоже очевидное ретро, но в отличие от оркестра Сеньора Коконата, никаких сложных музыкально-исторических ходов не подразумевает. Говорят, что Yeah Yeah Yeahs – это рок для тех, кто уже много лет рок не слушал, для тех, для кого рок кончился за много лет до того, как известие о его кончине было доведено музыкальными журналистами до сведения всех читателей рок-журналов. Говорят, что Yeah Yeah Yeahs - это не просто возвращение саунда, а возвращения секса в музыку, возвращение лихорадки, возвращение истерики, возвращение самодурства, бескомпромиссности, индивидуализма, независимости. Возвращение самозабвения, визгливости, бесстыдства и радостной агрессивности. По сравнению с Yeah Yeah Yeahs, всё остальное - манерная и натренированная на успех сборная мебель из магазина IKEA. То есть смысл этой музыки оказывается вовсе не в саунде и, тем более, не в ретро-духе, а в том, что в равной степени отсутствует и у тоскливых британских гитарных поп-групп типа Coldplay или Travis, и у нью-метал групп, и у подавляющего большинства электронных проектов. Удивительно не то, как звучат Yeah Yeah Yeahs, а то, что сегодня вообще возможно петь и звучать настолько не фальшиво и не вымученно. Итак, понятно, что всемирно-историческое значение трио Yeah Yeah Yeahs состоит в возвращении человеческого фактора. Но если это так, то остаётся вопрос: должен ли вернувшийся человеческий фактор принудительно иметь характер нео-гаражного-рока?
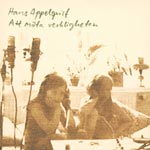
Hans Appelqvist «Att möta verkligheten» (Häpna, 2003) Это маленький компакт-диск, длиной в 21 минуту. На нём три композиции. Каждая из них базируется на историях, которые рассказывают обычные люди. Рассказав историю, они поют известные или совсем неизвестные песенки. Рассказы и песни звучат на шведском, английском, китайском и немецком языках. Первая композиция – это рассказ двух девочек, во второй – китайской - мы слышим голоса взрослых людей, в третьей части говорит и поёт пожилая женщина. Голоса и песни сопровождает акустическая музыка, прежде всего - пианино, реже - мандолина и флейта. О чём идёт речь в рассказах, я понять не смог. Но звук человеческой речи создаёт затягивающую в себя атмосферу, особенно, когда ненавязчиво начинает подыгрывать пианино, действующее как саундтрек документального кино. Пианино заполняет паузы, сглаживает переходы, комментирует голос, сопровождает пение. И всё вместе утрачивает характер невыразительной и случайной документальной записи и приобретает целостность и завершённость. Этому способствует и ясное деление альбома на три части и деление каждого трека на рассказ и песню.

The Band of Bees «Sunshine Hit Me» (2002) Очень сильный солнечный удар получил лирический герой, на обложке изображен, хотя и карикатурный, но всё равно недобрый боец рестлинга. Британский дуэт неудачно назвал себя просто «Пчёлы», это имя оказалось зарезервированным, пришлось переименоваться в Band of Bees – «Пчелиный оркестр», тоже неплохо. Альбом звучит живо, человечно и расслабленно, но, похоже, является симуляцией, живая группа эту музыку вовсе не играла. Впечатление имитации усиливается и оттого, что каждая песня – в своём стиле, то есть явно ориентируется на какой-то первоисточник. Дело не ограничивается соулом, фанком, оркестровым психоделическим попом и регги, а доходит и до имитации африканской традиционной музыки. Одновременно всё это как бы инди-поп, то есть стремление написать маленькую, но красивую и искреннюю песенку о глубоко личном и прочувствованном. Писали песню частную, а получилась – на всю жизнь. По ходу альбома, правда, обнаруживается, что разнообразие – это, скорее всего, тактический манёвр, отвлекающий внимание. Группа явно тяготеет к акустической неспешной психоделике, не особенно сконцентрированному, но и не особенно растекающемуся поигрыванию: вот поиграю я... поиграю... Ясные камерные ударные, гитарный аккорд, электроорган, не лишённое солнечного пафоса фортепиано. Песни, в которых нет вокала, раздражают меньше всех прочих.
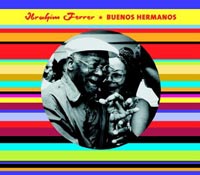
Ibrahim Ferrer «Buenos Hermanos» (World Circuit, 2003) Новый альбом ветерана кубинской эстрады Ибраима Феррера. Феррер относится к обойме музыкантов, поднявшихся на волне бума вокруг проекта Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club воспринимался как уникальное явление забытого, но до сих пор живого саунда кубинской эстрады 30-х – 40-х годов. В любом случае, нечто оригинальное и крайне симпатичное. За этим проектом стоит британский лейбл World Circuit, собравший и записавший этих музыкантов, отобравший песни и сильно повлиявший на саунд. Приложился к этому делу (и к саунду, и к PR) и североамериканский гитарист Рай Кудер. То есть саунд Buena Vista Social Club был тем, что хотелось слышать модникам Европы и США. Ведь оригинальной кубинской музыки существует огромное количество, но чего-то в ней всё время не хватало, а Buena Vista Social Club оказался именно тем, что надо. Новый альбом Ибраима Феррера был записан уже два года назад, полтора года его держал под замком лейбл World Circuit – не понятно зачем, наверное, рассчитывая стартовать новую волну интереса, который в последние годы просто исчез. Альбом Ибраима Феррера звучит неуверенно и нерешительно, в нём нет басов, нет заводных песен, нет душеразрывающих мелодий... он мил и невзрачен. Наверное, так и звучит эта музыка на самом деле, когда в неё никто не всматривается горящими от восторга глазами, когда она сама не понимает, для чего она звучит и кому она интересна. И от того, что мы - как и сами музыканты - не уверены, cool ли это ещё или уже нет, мы в эту музыку начинаем вслушиваться: что в ней есть на самом-то деле?
sahua (ethnotrip.blues.ru):
Андрей Горохов:
июнь 2003
|