|
|
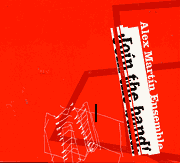
Alex Martin Ensemble «join the band!» (Different recordings, 1998) Когда я услышал компакт-диск Ансамбля Алекса Мартена, я сначала удивился, потом разозлился, потом задумался. Заглянув в интернет, я узнал, что Алекс – испанец, музыку делает в стиле техноджаз. Очень хорошо. Плохо то, что звучит его техноджаз как клонированный джангл. Впрочем, клонированный ли? Клон – это копия, неотличимая от оригинала. А музыка Алекса очень отличима от оригинального лондонского джангла образца 1993-го года. Настоящий джангл захлёбывается и спотыкается, но самое главное – он сделан грубо, в нём всё на виду, все его составные части и не думаю скрываться. Алекс же вылизал свою музыку мягким и тёплым языком. Джангл очень изменчив – музыка Алекса довольно статична, она практически не меняется. В раннем джангле, так называемом дарккоре, на заднем плане завывает привидение – это мрачный и тянущийся электронный звук, медленно повышающий свой тон, Алекс повторил этот эффект в виде милой жевачки-тянучки. Всё это меня разозлило. Почему я нехорошо задумался? Я поймал себя на том, что мне хочется упрекнуть Алекса - он изготовил живенько звучащую, но по сути неживую музыку из живого, нервного и парадоксального джангла. Но ведь джангл-то – это разновидность техно. Джангл никогда не был живым, джангл – это компьютерная музыка, возможно, первая танцевальная музыка, сделанная не на клавишных, а в компьютере. И вот сегодня она воспринимается как живая?! Мы живём в очень странное время.
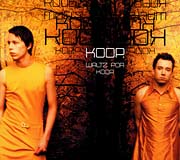
Koop «Waltz For Koop» (Сompost, 2002) Мы продолжаем слушать nujazz, что-то очень много его появилось. Смущает же меня вот что. Мне кажется, что ньюджаз очень часто – как вот, скажем, шведский дуэт Koop – это дип хаус, изготовленный из звуков, сильно напоминающих звуки акустических инструментов. Но очевидно, что это музыка из семплера и секвенсора, она держится на брейкбите и упруго-резиновой партии баса. Плюс несколько приглашённых заблудившихся инструменталистов, которые выдувают милые бесхребетные соло. Плюс несколько певцов и певиц... и готово. Что именно готово? Джазовые рецензенты обсуждают эту музыку в качестве настоящего джаза с незначительными добавками электронных звуков. И ребята из Koop прямо так и заявляют, их цель – возрождение джаза в Скандинавии. Бред какой-то, на самом деле речь должна идти о возрождении Easy Listening и лаунж-музыки, то есть музыки, выполняющей функцию акустического орошения комнат отдыха. Раньше изготовители такой продукции были грузными дяденьками в костюмах и толстых очках, сегодня мы имеем дело с клёвыми и вполне грамотными юношами с панк-причёсками. Альбом «Вальс для кооператива» начинается нежной девичьей босса-новой, но потом переползает к соулу. Cамой разнообразной джазоватости хоть пруд пруди. Барабаны исключительно джазовые, а что стучат они брейкбит, так что же им ещё стучать? Я слышал эту музыку в баре – отлично звучит, такое бодрое настроение возникает, что хочется улыбнуться незнакомой стене. Вернувшись домой, я завёл для сравнения настоящий джаз и убедился, что в нём - одни дыры и провалы, ты не музыку слушаешь, а ждёшь: ну, вот сейчас заиграют! Я думаю, надо брать себя в руки и не разрешать себе упиваться брейкбитом и синтетическим басом, а не то вся остальная музыка окажется одной большой дырой. Тогда как на самом-то деле, это ньюджаз – огромная чёрная дыра, в которую много что упало.

bazille noir (jubilee, 2001) bazille noir - гамбургский дуэт, думаю, что название нужно переводить как чёрная бацилла. Распознать и здесь формальное родство с джазом несложно, однако, сразу бросается в глаза, что барабаны у bazille noir более жёстко записанные и немножко надтреснутые. Оттого и звучит этот псевдоджаз вовсе не мечтательно-ностальгически, но скорее индустриально. С отдельными джазовыми звуками bazille noir поступают именно как с отдельными звуками – они не слипаются в бесконечные соло, а появляются и пропадают. То есть эта музыка вовсе не стремится замаскироваться под джаз, так сказать, обмануть старика и ребёнка. Это определённо техно. Тянущиеся звуки на заднем плане напоминают пассажи из фильмов ужасов, применявшиеся в джангле. Атмосфера почти кинематографического безлюдья, но одновременно и напряжённости изготовлена довольно элегантно. Это не мрачная музыка, разве лишь слегка не дружелюбная.

«un tributo to James T. Russell, inventor of the Compact Disc» (alku, 1999-2001). Нет, nujazz - какой-то неправильный джаз. И не новый. Вообще говоря, неуместное насилие над старой музыкой. Ритмичную, изменчивую и игривую странность можно сделать куда более простыми и эффективными средствами. В размышлении, что можно было бы назвать достойным компьютерным джазом нашей недостойной эпохи, я наткнулся на трек проекта Wobbli на сборнике, выпущенному в честь Джеймса Ти.Рассела – американского физика, работы которого привели к созданию компакт-диска. Дань уважения отдал крошечный испанский лейбл alku. Wobbli пристыковал друг к другу разнородные звуки, довольно сильно их изуродовав. Ритм в этой музыке есть, но он свободен и ненавязчив. Всё в целом похоже на лай собак или завывания кошек – если бы кошки и собаки могли завывать кусками чужой музыки. Трек Wobbli постоянно меняется, ни один из пассажей не возвращается. На редкость изящная игрушка. Сборник, посвящённый изобретателю компакт-диска, производит впечатление тоненького сборника стихов. Пьесы не длинны, порывисты, растрёпаны и друг на друга непохожи. Бас-барабана нет. Звуков в целом – чуть больше получаса. Есть здесь и проект, названный Oval/Frank Metzger, он представлен аж тремя треками. Франк Метцгер – один из участников группы Овал первой половины 90-х, когда в ней ещё было три человека. Собственно, у остальных участников проекта сегодня столько же прав на это имя, как и у мэтра Маркуса Поппа. Овал на сборнике, посвящённом изобретателю компакт-диска – это грамотный ход. Именно немецкая группа Овал в начале 90-х применила компакт-диск в качестве музыкального инструмента – ребята рисовали линии на рабочей поверхности диска, отчего тот прыгал и музыка ломалась и заедала. Музыка Франка звучит довольно симпатично, в ней несложно расслышать прыгающие компакт-диски – которые стали торговой маркой не только Овала, но и всей прогрессивно мыслящей электроники. Франк Метцгер звучит не столь сусально, тяжеловесно и протяжно как Маркус Попп, но в принципе, разница не очень большая. Есть в одном из треков и человеческий голос, который пытается что-то сказать, по-моему можно было и без него обойтись, впрочем, он совсем не раздражает. Альтернативный Овал, бывает же такое.
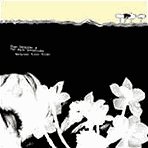
Hope Sandoval «Bavarian Fruit Bread» (2001) Хоуп Сэндовал – участница американского дуэта Mazzy Star. Её голос и песни принято описывать, как расплывающиеся в голубоватой дымке, атмосфера неуловима, холодна, несфокусирована, но одновременно и навязчива. Песни мало чем отличаются друг от друга. Звонкие предметы – голос певицы, звон треугольника, струны гитары, редкие касания тарелок висят над колышущимся и едва слышным морем медленного басовитого грува. Принято считать, что Хоуп Сэндовал – это укурочная музыка... мозги расширяются и медленно-медленно уплывают прочь от родной крыши. Мне этот голос однако не кажется расслабленным и безмятежным. В нём всё время чувствуется напряжение, сопротивление чему-то невидимому, но ощутимому, как будто мягкая пушистая туча всё время натыкается на натянутую металлическую проволоку.
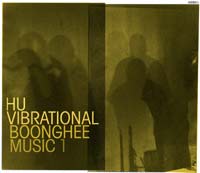
Hu Vibrational «Boonghee Music 1» (Meta records, 2002) Вроде бы обычная грампластинка с ритмичной, довольно минималистической музыкой, своего рода инструментальный минимал хип-хоп. Ан нет, никакой электроники тут нет, всё выстучано вживую на африканских барабанах – от огромных басовых контейнеров до маленьких глиняных горшочков. Играют Эдэм Рудольф и Хамид Дрейк. Очень длинён список джазовых музыкантов, с которыми поиграл каждый из них. Всё вместе, понятное, дело World Music эпохи минимал техно. Звучит, однако совсем не противно, даже наоборот – изрядно интригует. Это вовсе не африканская музыка, та не такая смирная, это и не джаз. На техно, хип-хоп и прочую клубную музыку похоже и того меньше. Грув здесь есть, но он, удивительное дело, базируется не на каком-то одном ритмическом пассаже. Ритм всё время меняется, а грув остаётся, музыка напряжения не теряет и в кудрявую чушь не превращается.

«Treibstoff gemixt ... #2» (Treibstoff, 2002) И для пущего контраста – абсолютно неубедительное минимал техно, вступившее в возраст мейнстрима. Кёльнский лейбл Treibstoff, сборник выпущенный специально для фестиваля Sonar. Здесь 10 треков – один и тот же бит, одни и те же звуки. Спутать невозможно – это общедоступные барабаны и тарелки. Каждый цикл невыносимо скучен, после одного-двух повторений сводит челюсть. Танцевать, наверное, можно, впрочем, не пробовал, в смысле звонкости и прозрачности музыка ничем не уступает Кайли Миноуг. Похоже на минимал техно? Ну, да, что-то есть. Называют и это дело минимал техно? Если ещё не называют, то скоро назовут. Нужно ли прикладывать старание, чтобы эту музыку понять, полюбить или хотя бы расслышать, что в ней, собственно, происходит? Нет. Ничего в ней не происходит, не за что её любить. Зачем я её завожу? Чтобы предупредить: на нас надвигаются времена, когда надо будет избегать музыку, которую будут называть «минимал техно».
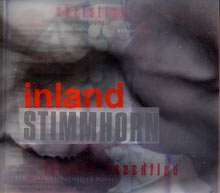
Stimmhorn – «Inland» (recrec, 2001) В составе швейцарского проекта Stimmhorn Кристиан Цендер – он поёт и играет на разного рода аккордеонах и гармошках, и Бальтазар Штрайф - он играет на всевозможных духовых инструментах, от альпийских рогов и рожков до вполне академических труб. Занимается он и изготовлением собственных духовых инструментов со странными тембрами. Джазовые корни его манеры игры не расслышать невозможно. Кристиан Цендер – мастер обертонового пения, оно типично не только для альпийской народной музыки, но и для, скажем, тувинской или тибетской. Но голос Кристиана вовсе не всегда вибрирует на низкой и надтреснутой ноте, Кристиан поёт на разные голоса, с разным тембром, с разной интонацией. Никаких слов нет, всё понятно и без них. Музыка движется вперёд крайне неспешно и задумчиво, как красивая альпийская корова, и впечатления немыслимой джазовой виртуозности вовсе не производит. А вот на пейзаж она, определённо, похожа. Музыка то стекает вниз, то поднимается вверх, но я бы не сказал, что это типично альпийский пейзаж, скорее уж типично сюрреалистический. Музыка дуэта Stimmhorn, разумеется, духовая – человеческий голос трактуется как духовой инструмент, а трубы стремятся охать и разговаривать. И от этого возникает странный эффект: гнусавый, так сказать, нутряной голос певца и гнусавый тембр труб явно создают впечатление, что мы находимся внутри человека, на полпути между глоткой и лёгкими. Но одновременно – мы слышим движение воздуха, ветер, нечто свободное, летучее и не скованное, то есть внешнее. Вот музыка дуэта Stimmhorn постоянно и выворачивается то внутрь, то наружу, рассказывая по-театральному зрелищные истории. Это трогательный джаз пылкой альпийской коровы, мыслящей свой космос в виде бесконечной мыльной оперы.
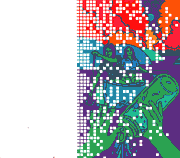
Dino Felipe as Flim Toby (Schematic, 2002). Дино Фелипе Делавега – 23-летний американский молодой человек. Его альбом явно попадает в категорию «электроника». При этом электронной его музыка не очень-то и является. Дино записывает всякие звуки, которые случаются дома, а также - вокруг дома, а также по дороге куда-нибудь, и собирает из них коллажи. Я думаю, что это довольно распространённое занятие – собери себе из окружающего аудио-мусора свой собственный конструктор, а потом конструируй из него грузовички и вертолётики. Кстати, Дино по собственному признанию, одержим процессами, напоминающими или имитирующими жизнь. В его треках, как несложно догадаться, много самого разного копошения, перемешивания и перетряхивания. Они похожи на колоды шевелящихся и ветвящихся карт. В принципе, всё это неплохо, электроакустическая музыка, после нескольких десятилетий существования в виде незаконной дочки академического авангарда, нашла себе применение в виде ритмичной и незатейливой поп-музыки – голоса народа. Большая и прямо-таки универсальная проблема только в том, что как только дело доходит до музыки, то есть до повторяющихся конструкций, выясняется, что в голове у Дино Фелипе сидят незатейливые ритмические схемы, которые изрядно упрощают его изящные поделки. Впрочем, на альбоме много треков и без бита, они, конечно, звучат лучше, расслабленнее и чище. Но музыка всё равно не приобретает свободного дыхания. Ох, как же надоела продукция робких и застенчивых юношей, которые не подозревают, что где-то делеко-далеко есть просторы, на которых легко и свободно дышится. Ну, а мы живём в бабушкином сундучке с иголками, нитками и кнопками. Ну, что ж, всюду жизнь.

Flim «Given You Nothing» (Tomlab, 2002) Проект Flim продвигает Энрико Вуттке, он живёт в Дрездене. Это минимализм, это поп, это лирика. Музыка тепла, грустна и минималистична. Надо бы ещё одну фразу придумать со словом «минимализм»... Ни для кого не является секретом, что слово «минимализм» изрядно поизносилось, более того, оно применимо практически ко всей существующей музыке, вся она своим существованием обязана идее минимализма – то есть идее медленно изменяющихся неплотных петель звука. В музыке проекта Flim доминируют фортепиано, электроорганичик, вибрафон, иногда на заднем плане раздаются голоса. Фортепиано то записано ясно и звонко – как на записях с классической музыкой, то выходит из фокуса и звучит глухо и тревожно. Как и полагается в минимализме, в любом месте музыки можно моментально распознать повторяющуюся фигуру, она вполне понятна и узнаваема, но уследить, что происходит с этой музыкой на всей её длине, невозможно. Вблизи, под микроскопом она устроена очень просто, а чуть отодвинешься назад, она расплывается, как в тумане. Может быть, это ночная музыка? Или музыка для больной головы?
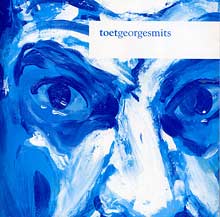
George Smits «Toet» Не правда ли, хочется отвлечься от детской ночной музыки и послушать немножко взрослой ночной музыки? Бельгиец Георг Смитс по прозвищу Toet уже в 60-х годах играл на гитаре в авангардистских антверпенских коллективах. Потом снимался в кино. Потом писал картины – судя по обложке альбома, довольно экспрессивного свойства. Потом взялся за еженедельное ночное радиошоу, из-за которого бросил живопись, музыка захватывала его всё сильнее и сильнее. Подготовка каждой программы отнимала 20 часов, Георг Смитс изготавливал треки, используя электронные звуки и звуки естественного происхождения, строил он и свои музыкальные инструменты... а потом в радиоэфире микшировал свои треки. На компакт-диске собраны фрагменты его радиопрограмм первой половины 90-х, вскоре после выхода его первого радио-альбома в 1997 Георг Смитс умер. Альбом «Toet» - второй сборник такого рода, его собрал племянник музыканта. Сложно охарактеризовать эту музыку. Она очень изменчива, треки не похожи друг на друга, про некоторые вроде бы понятно, как они сделаны – скажем, негромкий гул и звон запущен в обратную сторону, иногда происходящее напоминает крик лягушек в тропическом лесу, иногда звучит что-то вроде кантри. Объединяет все эти разнородные фрагменты, пожалуй, то обстоятельство, что музыка движется медленными волнами, в каждом крошечном треке – много слоёв, но ни на каком из них сосредоточится невозможно, да и не нужно. Из разных окон доносятся размытые эхом и влажным воздухом звуки. На редкость осмысленная и содержательная музыка. И взрослая. И, безусловно, ночная. Ну, что я привязался: подростковая музыка, взрослая музыка? А в том дело, что и взрослые, и подростки употребляют, вообще говоря, одни и те же слова родного языка. Но смыслы, которые они выражают, - совсем разные. Более того, молодой человек склонен, по-видимому, полагать, что слово имеет один и тот же всем очевидный смысл, а некоторые взрослые способны управлять смыслом слов. Собственно, то же самое относится и к звукам. Прекрасно слышно, что эту музыку делал человек с головой и ушами. У него получился настоящий учебник по саунд-эстетике – по непростому ремеслу подбирания друг к другу небольшого количества разнохарактерных звуков, которые все вместе образуют один целостный образ. Пара треков звучит довольно непохоже на все остальные, она как будто специально вставлены для любителей idm. Возможно, что это постарался составивший этот сборник Келвин - племянник ушедшего от нас мастера.
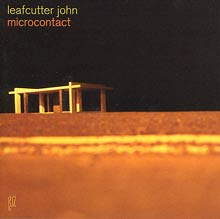
Leafcutter John «Microcontact» (Planet µ Records 2001) http://www.leafcutterjohn.co.uk/main.htm Альбом «Microcontact» вышел уже полтора года назад, но поскольку у меня много других дел, кроме как охотиться за поп-музыкой... нет, как-то нехорошо сказалось. Лучше так: Альбом «Microcontact» вышел уже полтора года назад, но поскольку одновременно вышло так много всякой дряни, то я, слушая её денно и нощно, только сейчас докопался до чего-то приличного. Вы будете смеяться, дорогие радиослушатели, но мне и эта музыка кажется почему-то ночной. Это, конечно, как бы idm, но... Давайте представим себе обычный idm-трек в виде наглого робота. Если этого робота разобрать на части и разложить их на некотором расстоянии друг от друга на ковре в тёмной комнате, то мы и получим что-то вроде музыки проекта Leafcutter John. Почему этот саунд однозначно ассоциируется с ночью? Наверное, потому, что ночью слушать плотную грувоносную музыку неинтересно, громко её на заведёшь, а при тихом звучании она пропадает. Ночью хорошо звучат отдельные как бы аккуратно вырезанные ножницами звуки, не утопленные в басовом мареве. Я не поверил своим глазам, когда узнал, какое музыкальное впечатление сильнее всего повлияло на юного Джона Бёртона – который и есть этот самый Leafcutter John. Его отец был живописцем, он ночами красил холсты под музыку, скажем, Queen. А сын спал на втором этаже. Музыка доходила до него сквозь перекрытия и дверные щели в виде отдельных никак друг с другом не связанных резких звуков и волн непонятного гула. Любопытным образом, эта разреженная музыка вовсе не воспринимается вялой и децентрализованной затеей. Все треки альбома «Microcontact» нисколько не сомневаются в правоте своего дела.
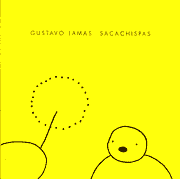
Gustavo Lamas «Sacachispas» (discosdiscos, 2002) А вот, наконец, не ночная музыка. Альбом аргентинского музыканта Густаво Ламаса. Нет, это не саунд Буэнос Айреса, это, скорее, саунд Кёльна или Берлина – на Густаво сильно повлияла продукция таких немецких лейблов как Kompakt и Chain Reaktion. Да-да, минимал техно, поп-эмбиент, лёгкая ностальгия по дабу. Но разве немецкое минимал техно не повлияло просто на всех двуногих и двуухих? Да, и в этом-то и состоит загвоздка. Обычно это самое «влияние» - на самом-то деле просто банализация, эксплуатация какого-то конкретного звука или композиционного хода. В таких случаях так и хочется сказать: «что же ты песню испортил, дурак?» Это я всё к тому, что Густаво Ламас песню не испортил. Его музыка уже два года тому назад звучала интереснее рядовой продукции, выпускаемой Kompakt-ом. Кёльнский минимал-эмбиент застрял на паре звуков и технических приёмов, Ламас же ухитряется всунуть в свою музыку массу еле слышных звуков, которые нимало способствуют очеловечиванию строгого саунда. Мне кажется, что аргентинский продюсер техно-средствами делает не совсем техно-музыку.
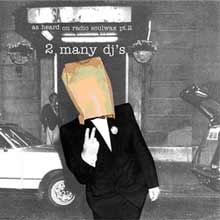
2 many dj’s (As Heard On Radio Soulwax) Вот уже скоро год как до меня доходят слухи о новом музыкальном феномене – bastard pop, называется он. То есть в щадящем переводе – «незаконнорождённая поп-музыка», в нещадящем – «ублюдо-поп». Его делают и в Великобритании, и в Германии, и в США. Уже существует масса коллективов (Freelance Hellraiser, Frenchbloke, Girls on Top, Cassette Boy, Osymyso или Skkatter) которые изготовляют танцевальную музыку, смешивая друг c другом очень известные песни. Скажем, нежное девичье трио Destinys Child с панк-коллективом Dead Kennedys. Есть места в сети, где публикуют подобные треки, фирма Sound Foundry (изготовительница программы Sound Forge, впрочем, для бастард-попа применяется её программа Acid) объявила конкурс на лучший бастард-трек, есть римейки бастард-треков, которые попадают в хит-парад. Конечно, результат подобных усилий, как правило, совершенно нелегален. Но фокус здесь не в том, чтобы спрятать концы в воду, дескать, никто не догадается, откуда я взял грув, крик или гитарный рифф, а в том, чтобы играть с открытыми картами – все использованные компоненты должны быть моментально опознаваемы. Идея эта конечно не нова, из ближайших к нам примеров следует вспомнить Фэтбой Слима, из более далёких – ранний хип-хоп и диджея Грэндмастер Флэша, который заводил параллельно диско-грампластинки и хиты Queen и Rolling Stones. Из совсем уж чуждых нам примеров на ум должно приходить имя Джона Освальда, виртуоза измельчения, перемешивания и переклеивания чужой поп-музыки. Правда, под его продукцию нельзя танцевать... поэтому я и говорю – чуждая нам она. Недавно вышел долгоиграющий альбом британского дуэта 2manyDJ’s. Насколько я могу судить, это первое появление на компакт-диске полновесного бастард-поп-альбома. Проект отнял три года, которые ушли на согласовывание авторских прав. Из 187 треков, которые хотели использовать Стивен и Дэвид (участники проекта two - many – deejays), они получили разрешение на 114. Свою халтуру они слепили на компьютере за неделю интенсивного труда: 45 треков, которые идут чуть больше часа. Как оценить результат? Идея, наверное, любопытная, но, по-моему, не очень долгоиграющая, она быстро надоедает. С другой стороны, несложно заметить, что если ты не знаешь оригиналы использованной музыки, то есть не обладаешь энциклопедическими познаниями в поп-музыкальной тоске последних 20-30 лет, то результат гибридизации тебя вовсе не изумит – ведь ты имеешь дело с обычной ухающей музыкой, в которой есть и моторный грув, и панк-гитары и развесёлые поп-голоса. Всё это друг другу совсем не противоречит и прекрасно друг с другом сочетается. Основной контраст – моторный бит и гитарные панк-риффы – изношен до изумления уже пять лет назад. Я не уверен, что подобного рода шутка ещё кого-то веселит. До конца мне дослушать этот альбом даже за несколько заходов так и не удалось – слишком быстро возникает подозрение, что имеешь дело с очередным вливанием свежей крови в британский клубный техно-хаус. Или, скорее, очередным вливанием несвежей крови?
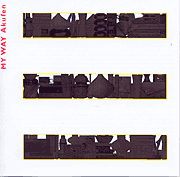
Akufen «My Way» (Force Inc., 2002) Проект Akufen продвигает монреальский человек по имени Марк Леклер (Marc Leclair). Марк – в прошлом джазовый гитарист, панк ему тоже не очень чужд. Музыку он делает так: каждое утро записывает много часов звука с радиоприёмника. Потом вырезает крошечные фрагменты – буквально на грани узнаваемости, не длиннее одной секунды – и собирает из них ритмичные коллажи. Звуки ритм-машины он тоже использует, что, на мой взгляд, делу сильно вредит, потому что результат начинает восприниматься как украшательство довольно прямолинейного техно-хауса. Используется и акустическая гитара, тоже немало порезанная – она, наверное, и добавляет того волшебства, которое приписывается музыке Akufen. Конечно, когда вместо брейка вставлена нарезка из 10 крохотных звуков, идущих встык, после чего опять вступает бас-барабан, по спине идут лёгкие мурашки. Но недалеко они идут. К коротким звукам, напоминающим прихотливые брызги отсутствующего океана, быстро привыкаешь, и в голове остаётся вечное бум-бум-бум. Что тем более обидно, ведь обычное техно устроено куда более тупо и прямолинейно. В первом треке («Even White Horizons») бит не очень навязчив, скорее это какое-то застенчивое downtempo, поэтому прекрасно слышно, как сложно переплетены семплированные фрагменты, из них буквально соткана прерывающаяся и сама в себе отражающаяся псевдовокальная партия. Несмотря на мою слепую ненависть к прямому бас-барабану, не могу не признать, что это изящно сделанная работа. Настоящее древнекитайское техно. Сенсация сезона.

Mokira «Plee» (Mille Plateaux, 2002) Проект Mokira продвигает немец Андреас Тиллиандер (Andreas Tilliander). Он делает небыстрое минимал техно. Плюс немного странных звуков, пару лет как вошедших в моду – «glitch» зовут их в народе: акустический блик, укол. Музыка производит крайне простое впечатление. Сделана, что называется, в лоб. Треки никуда особенно не движутся, но при этом и не раздражают. Всё вместе звучит неплохо. Иногда вступающие настоящие тарелки или бас-барабан тоже радуют. Семплы, маниакально крутящиеся на заднем плане, не дают музыке завять в пластмассу искусственных цветов. Очень убедительный пример чуткого и внимательного отношения к делу. К какому делу? К избеганию китча и банальности. Не секрет, что техно - это обман народа, перманентное несдерживание обещания. Никуда эта музыка не ведёт и никаких глубин и высот она никогда не откроет. В данном же случае она говорит об этом честно и ясно. «Простота – это вовсе не невежливая сухость», сказал Конфуций. Или, безусловно, сказал бы, услышав эту музыку.
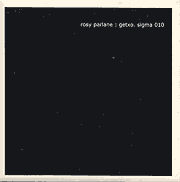
Rosy Parlane «Getxo» (Sigma Editions, 2001) Новозеландец Rosy Parlane, живущий ныне в Лондоне, выпустил свой компакт-диск на суровом эмбиент-лейбле Sigma Editions, базирующимся теперь в Нью-Йорке. Роузи Перлэйн играл на барабанах и пианино в трио Thela, два остальных участника которого – Дион Уоркмен (Dion Workman) и Дин Робертс (Dean Roberts) тоже выпускают минималистичную электроакустическую музыку. Вместе с Дионом Уоркманом Rosy Parlane записал альбом проекта Parmentier. Его сольный альбом «getxo» – это шесть длинных треков, они пустынны, минималистичны, но внутри себя довольно складно устроены. Складно не в смысле китчево и прилипчиво, а в смысле – конструктивно и разумно. Есть тут и непреувеличенная машинность и крайне сдержанное присутствие естественных шумов, и не раздражающие своим однообразием петли звука. Слушать, вообще говоря, есть очень мало чего, но в том-то и дело, что есть! Кажется, что музыка Rosy Parlane – это одна из соломинок огромного снопа каких-нибудь, скажем, Autechre. Удивительно дело, этих хрупких и грозящих замолкнуть навсегда звуков оказывается достаточно и для построения пространства, и для поддержания напряжения. А в случае этих самых Autechre, когда аудио-иррациональности и изменчивости становится чересчур много, я никак не могу избавиться от впечатления, что чего-то всё равно всё время не хватает. Парадокс. Идея эмбиент-музыки подверглась в 90-х такой девальвации, что, употребив слово «эмбиент», хочется вымыть рот с мылом, одна надежда на то, что скоро все забудут, что оно когда-то значило. Примечание для непонимающих эзопова языка: на Autechre эта музыка похожа не больше, чем на Металлику.
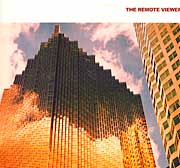
The Remote Viewer «Here I Go Again On My Own» (City Centre Offices, 2002) Иллюстрация классического тезиса, что мелодия и ритм для хорошей музыки – помеха. А также того тезиса, что не всякое посипывание и похрустывание звучит интересно и напряжённо. А также того тезиса, что вовсе не всякая сентиментальность может претендовать на звание эмоциональности... вообще, сантиментам и благим намерениям место на почтовой открытке, а не в музыкальном произведении. Речь идёт об альбоме британского проекта The Remote Viewer. Такой музыки производится всё больше и больше, живот кита электроники неостановимо растёт и всё никак не лопнет... и мне всё сложнее и сложнее придумать, с чем бы её новым сравнить. Ну, скажем, так. Есть персонажи, считающие, что слова в нынешних поп-шлягерах – это и есть поэзия сегодня. Вот когда такие персонажи обнаруживают в себе склонность к аудиодизайну, то они начинают полагать, что их ласковое поскрипывание и почёсывание – это и есть музыка сегодня. Я, конечно, понимаю, что всем хочется любви, покоя и комфорта, но не ценой же лоботомии? Примечание для непонимающих эзопова языка: если вам эта музыка нравится, то вы – в опасности!

Burch Renders & Reducers Mama (Domizil, 2001) Грампластинку мне подарили Бернд и Маркус – шефы швейцарского лейбла Домициля (Domizil), это их собственная музыка. Когда я увидел огромные белорозовые магнолии на обложке, я вздрогнул. Во второй раз я вздрогнул, когда Макрус мне сказал, что русским эта музыка должна очень понравиться – медленна, нежна и мелодична она. Надо сказать, что в чём-чём, а вот уж в нежности и мелодичности хозяев лейбла Domizil – альпийского оплота жёстких электронных царапин – заподозрить ну, никак невозможно. - Это изи лиснинг? - спросил я и взял грампластинку двумя пальцами за уголок. - Кушай-кушай, Андрюша, - покивали они. Дома я с опасением поставил иголку на пластинку, ожидая услышать резкий дигитальный хрип, и вздрогнул в третий раз. Музыка и в самом деле была как бы коммерческим как бы электро-easy. Тем не менее, она - это абсолютный fake, то есть обман, подделка. Стильную ретро-электронику подделывают два метра clicks-and-cuts. При этом никаких жёсткостей, толчков и прыжков нет. Зато есть масса звуков электрооргана, еле слышного цоканья, наплывов и отливов. Но скулу это псевдо-изи не сводит. Не знаю даже, почему. Не сладкий это easy listening. Но и не мрачно-экзотический. Он вообще не тёплый. Но одновременно и не демонстративно механический, хотя местами встречаются прямо-таки электро-поп-пассажи, особенно в басу. Наверное, сделать легкомысленный электро-поп – дело технически не очень сложное, а вот суметь воздержаться от всякой гадости, которая сама собой лезет в твою музыку, - это уже ремесло.
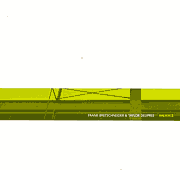
Frank Bretschneider & Taylor Deupree «Balance» (Mille Plateaux, 2002) Поскольку поклонники ждут от Музпросвета брейков, кликов и прочих пупсов, но при этом не сомневаются, что все эти брейки, клики и пупсы давным-давно проехали, а на подходе - что-то новое, чего ещё только предстоит полюбить, я продолжу тему как бы обычной музыки, которую стали делать люди, пару лет назад выдвинувшиеся на волне кликс-н-катс. Пресловутых дигитальных царапин и резких толчков стало куда меньше, грува больше, но главное – музыка стала сложнее внутри себя устроена, и по общему ощущению она стала не столько колючей, сколько холодной. Очень бы хотелось надеяться, что наиболее продвинутые из электронных музыкантов уже наигрались со звуковыми нагромождениями, порождёнными в результате некритического применения случайных процессов, и занялись усложнением и уплотнением музыкальных структур. По крайней мере, мне такой шаг назад казался бы вполне оправданным. Франк Бретшнайдер и Тейлор Дюпри на лейбле Mille Plateaux выпустили альбом «Balance» - «Равновесие»... название могло бы быть и поизящнее, всё-таки не Клаус Шульце же. Бретшнайдер и Дюпри – мэтры сверхминимального техно и герои кликс энд катс. Их новая музыка довольно техноидна и упруга, судорогами она практически не страдает. Она именно что упруга и напряжённа. Она не то чтобы втягивает в себя, у неё слишком мало для этого массы... она скорее наводит на резкость. Вроде бы ничего нового, но тошнит уже меньше. Разве не повод для радости?
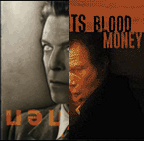
Давненько я что-то не обозревал новых звуконосителей. Должен сразу признаться, что сегодня с музыкой – просто беда. Был бы я моложе и злее, я бы рецензиями отделываться не стал, нет, я бы посвятил отдельную передачу и новым альбомам Тома Уэйтса, и новому альбому Дэвида Боуи, а Oasis и Моби я разве бы пропустил? Конечно, нет... А сейчас мне кажется, что большой разницы между Томом Уэйтсом, Дэвидом Боуи, Depeche Mode, Филом Коллинзом, Элтоном Джоном и этими, как их? да, Einstürzende Neubauten и Die Toten Hosen вообще нет. Все они состарились, что ещё не страшно, и посерели – что гораздо хуже. То есть музыка их звучит... с чем бы её таким необидным сравнить?... вот, сообразил: их музыка звучит, как Бритни Спирс! Почему? А потому, что для Бритни Спирс пишут и исполняют песни какие-то никому не известные и ни о чём внятном не заботящиеся дядьки. А самой Бритни всё равно, что и как петь. Так и все состарившиеся звёзды как коммерческого хлама, так и некоммерческого, похоже, вовсе не хотят заниматься музыкой, им лично это ни для чего уже давным-давно не надо. Вот и поют они чужие песни, как Бритни Спирс. И звучат поэтому они так же, как и она - пластмассово и фальшиво. И ни для чего хорошего не пригодно. И даже как-то глупо выражать своё неудовольствие по этому поводу. Да, хорошо было раньше: если тебе нравился Фил Коллинз, то ты – это одно, а если Том Уэйтс – то другое, совсем-совсем другой человек. А сегодня неважно, кто именно из звёзд тебе нравится – Фил Коллинз, Том Уэйтс или, скажем, Future Sound Of London – претензий ни на какую особость своей души, ни на радикальность своего вкуса ты иметь не можешь, это всё одно и то же. М-да... Это была, если хотите, рецензия на новые альбомы Тома Уэйтса, Дэвида Боуи и заодно на грядущий осенью альбом Фила Коллинза.
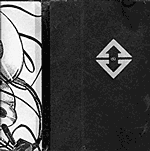
dü «transformation 19 mal einfach hergestellter komplizierter musik in 6 mal kompliziert hergestellte einfache musik» (Sonig, 2002) На кёльнском лейбле Sonig только что вышел хотя и недолгоиграющий, но, тем не менее, вполне полновесный альбом проекта dü – за этим странным именем скрываются Ян Вернер и Феликс Рандомиц. На альбоме 6 треков, идёт он всего 14 минут, но впечатление робкого карлика вовсе не производит, наоборот, никак не успеваешь сообразить, что же там, собственно, происходит – а он, оп!, и уже опять закончился. Называется он потрясающе: «трансформация 19 просто изготовленных, но сложно внутри себя устроенных треков в 6 сложно изготовленных, но по сути простых треков». Имеется в виду примерно вот что: Ян Вернер, совершенно не используя компьютера, путём довольно несложных манипуляций изготовил 19 запутанных музыкальных композиций и послал их Феликсу Рандомицу, который, манипулируя сложнейшими компьютерными программами, исходную музыку сократил, проредил и упростил. Проект dü – третий дуэт, в котором принимает участие Ян Вернер – после Mouse On Mars и Microstoria. Для музыки dü характерна довольно специфическая комковатость и попрыгучесть, впрочем, до свиного галопа не доходящая. Мне кажется, что это не очень серьёзное, но очень живое копошение – следы именно Феликса Рандомица.
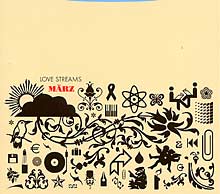
März «Love Streams» (Karaoke Kalk, 2001) März – это дуэт Эккехарда Эллерса и Альбрехта Кунце. Эккехард Эллерс – человек грамотный, поэтому его проект запущен с настоящей программой, речь в ней идёт о «новом фольклоре». И можно догадаться, что и о новом народе, потому что фольклор старого народа всё какой-то неинтересный попадается. Как бы то ни было, мы имеем дело с народным акустическим техно. Танцевать под него, конечно, нельзя, зато можно всё остальное – пить утром кофе, болтать по телефону и продолжать любить The Beatles. Любопытно, что это за народ такой, у которого такая нежно минималистическая компьютерная акустическая музыка могла бы быть народной? Какому народу бы было нескучно подобное слушать? У кого бы подобные – вообще говоря, довольно безобидные и благозвучные - переливы ассоциировались со словам «чувства, эмоции» и, может быть, даже «душа»? Неужели, человек человеку – клон?
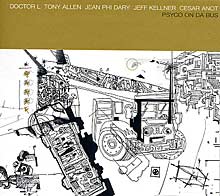
Doctor L «Psyco on da Bus» (Platform, 2000) По-моему, настоящая народная музыка чересчур расслабленной и безынициативной быть не может. Вот альбом, который называется «Псих на автобусе». Он вышел уже два года назад, но в руки археологов попал только сейчас. В его изготовлении принял участие Тонни Эллен – нигерийский певец, шеф проекта Doctor L – французский продюсер, в записи принимало участие и французское афро-бит-трио. В музыке масса баса, ненавязчивых афро-джазовых ритмов, клавишных, флейт, гитар и чёрного вокала. Всё это, конечно, ретро-симуляция, имитация психоделического фанка начала 70. Судя по моему описанию, всё это должно звучать ужасающе, но звучит почему-то свежо и непротивно. Отдельные композиции песнями вовсе не являются, скорее – затянутыми фанк-джемами, длинными инструментальными проигрышами, когда музыканты играют, не думая, что когда-то им надо и закругляться – то ли вписываться в какую-нибудь песню, то вообще останавливаться. Мне кажется, это именно то качество, которого так хотели добиться пост-рок-группы – чтобы результат не был ни песней, ни техно-треком, ни джазовой импровизаций, чтобы было не очень понятно, в каком именно месте композиции мы находимся, то есть одновременно идут и куплет, и припев, и проигрыш, и брейк... а всё вместе, тем не менее, не теряет напряжения. Для афро-джаза это нормальное состояние, для пост-рока – похоже, так и не реализовавшаяся мечта. Очень приятно, что Доктор L проскользнул между Сциллой и Харибдой – между world music и acid джазом. И между trip-hop-ом и нео-соулом он тоже проскользнул. Удивительная история. Как здорово, что находятся люди, всё ещё способные небанально записать бас и барабаны.

Super_Collider «Raw Digits» (Rise Robots Rise, 2002) Британский электро-фанк дуэт Super_Collider недавно выпустил свой второй альбом. Он называется «Raw Digits» – «Сырые цифры». Поёт по-прежнему Джеми Лайделл (Jamie Lidell), музыку делать ему помогал Кристиан Воугел (Cristian Vogel). Их дебютный альбом казался на редкость удачным, новый же оставляет странноватое впечатление, прекрасно слышно, что это вполне грамотно сделанная работа, неоднородности и запутанности в ней хватает, и фальшивый соул-вокал по-прежнему прекрасно ложится на жестковатое электро... но чуда не возникает. Особенно хорошо это видно после продукта Доктора L. Ещё раз бросив придирчивый взгляд на новое изделие Супер_Коллайдера, я моментально обнаружил, что, несмотря на многочисленные брейки и вставки нойза, ритм остаётся занудливо техноидным, милая маниакальная недоговорённость афро-бита ему и не снилась. Эхо-эффекта применена масса – а звуки всё равно картонные и ненастоящие. А певец... м-м-м-м.... как мудро заметил Элтон Джон, «эти ребята слишком молоды, чтобы петь блюз». Нет-нет, симпатичные и даже угрожающие моменты, конечно, есть, но от общего занудства они не спасают. Обидно, конечно.
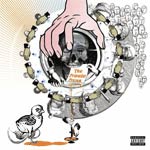
DJ Shadow «The Private Press» [MCA; 2002] Вот ещё один музыкант, чей дебютный альбом несколько лет назад взволновал и удивил незрелые уши, считавшие брэйкбит восьмым чудом света. Я имею в виду DJ Shadow, который в 1996 альбомом «Entroducing» спасал инструментальный хип-хоп от вырождения и коммерциализации. Хип-хопа DJ Shadow не спас (хип-хоп сам кое-как оправился), а DJ Shadow выдвинулся в первый ряд трип-хоп-знаменитостей 90-х годов, в не последнюю очередь благодаря своему проекту UNKLE – гибриду брит-попа и трип-хопа. UNKLE эксплуатировал идею Chemical Brothers, но должен был звучать поэлегантнее и поневрастеничнее. Что ему худо-бедно и удалось. Второй сольный альбом DJ Shadow, в отличие от первого, состоит из оригинального материала, первый-то был семплированным, вся музыка была чужой, хотя и виртуозно препарированной – и притом безо всякого компьютера. На первом альбоме использовались лишь два проигрывателя грампластинок. Шесть лет назад DJ Shadow демонстрировал высший пилотаж инструментального хип-хопа, что он демонстрирует сегодня? Он, конечно, мастер брейкбита, ухающего ритма, давилки и резкого взрыва. И бас его неплох. Только кажется, что он продолжает делать уроки и надеяться на высокую отметку уже после того, как получил аттестат зрелости. Для эпигонов брейкбита – то есть для тех, кто пришёл в этот бизнес слишком поздно - DJ Shadow должен быть, наверное, высшим авторитетом.
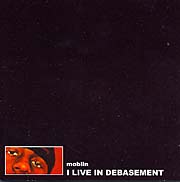
Moblin «I live in Debasement» (thistownisdoomed.com, 2002)
Моблин – точнее, швед Крис Рагнар Берген – делает брейкбит, но при этом оказать гуманитарную помощь брит-попу, трип-хопу, хип-хопу, всем слушателям, соскучившимся по сильному колотилову, он вовсе не хочет. А, главное, он не хочет показать всем неумехам-продюсерам, как нужно делать настоящий брейкбит. Брейкбит Моблина слегка подызуродован на компьютере – несильно, но вполне заметно. Сам по себе брейкбит от этого, конечно, проигрывает, а музыка, наоборот, выигрывает. Альбом длится 20 минут. Симпатичный формат, не успевает начать действовать на нервы.
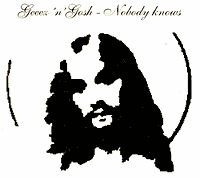
Geeez ’n’Gosh «Nobody knows» (Mille Plateaux, 2002) Спускаясь по шаткой лесенке демонтированного брэйкбита мы попадаем в лапы немецкого продюсера Уве Шмидта. Проект Geeez ’n’Gosh. Альбом «Nobody knows» - католический минимал-фанк. Несколько треков в середине альбома – крайне тихи и пустынны. И это крайне типично для Уве Шмидта. Настоящая музыка, дескать, в глубине. К концу альбома треки становятся опять погромче. Некоторое время назад я был большим энтузиастом творчества Уве Шмидта, его бесконечных придумок и масок. Мне казалось, что всё, что он делает – это дикий класс. Корифей всех наук. Как товарищ Сталин. Сейчас мне почему-то кажется, что, за что бы ни брался Уве Шмидт, у него получается много раз слышанное постиндустриальное электро: пластмассовые звуки, щёлканье и дёрганье. Претенциозное техно. Коварная высокомерная старуха, которая своей страстью к нарядам и изобретательностью в выборе макияжа оставляет далеко позади себя простых, наивных и румяных провинциалок. Замысловатое валяние дурака. Зачем так сложно и крюкообразно спасать техно, зачем его вообще спасать? Почему бы не заняться чем-то другим? Проект Geeez ’n’Gosh Уве Шмидта явно похож на проект Soul Senter Томаса Бринкмана, это не развитие идеи, а, скорее, воровство, впрочем, я не знаю, у кого Томас Бринкман украл свою идею – минимал техно плюс госпел-семплы плюс надежда, что clicks’n’cuts ещё не окончательно испустили дух. Правда, плечистый Томас Бринкман даёт газу на деревянных ногах, а мелкий телом Уве Шмидт в судорогах корчится на металлическом подносе. Ум-па, ум-па, ум-па...
|