Появление проекта Oval не прошло незамеченным. Быстрые щелчки прыгающего проигрывателя компакт-дисков и неожиданные прыжки музыки в новое место означали новый взгляд на вещи.
Щелчки - по-английски Clicks. Быстрый прыжок в новое место, то есть жёсткий стык - это Сut. Всё вместе - «Clicks and Cuts». Именно так и называются сборники, выпускаемые вперёдсмотрящим франкфуртским лейблом Mille Plateaux.
Недавно (июнь 2001) вышел второй сборник - это три компакт-диска.
На нём - масса знакомых имён:
Владислав Дилей (Vladislav Delay),
DAT Politics,
Pan Sonic,
Kid606,
Кит Клэйтон (Kit Clayton),
Томас Бринкман (Thomas Brinkmann),
Matmos,
Ян Елинек (Jan Jelinek) - он же Farben,
Уве Шмидт - в виде своего проекта Geez'N'Gosh,
Карстен Николай (Carsten Nikolai) - он же alva.noto,
Франк Бретшнайдер (Frank Bretschneider), который вместе с Карстеном Николаем руководит лейблом raster/noton,
Fennesz - человек с лейбла Mego,
Вольфганг Фогт (Wolfgang Voigt) - бывший Mike Ink, а ныне - All... и брат его Райнхард Фогт тоже тут... и ритм-машина его при нём.
Присутствуют и минимал-техно-японец Риоджи Икеда (Ryoji Ikeda), и Еккехард Элерс (Ekkehard Ehlers) в виде минимал-поп-проекта Auch, и не имеющий отношения к делу Antonelli Electric, и много кто ещё... всего 3х12=36 проектов.
Иными словами, сборник «Clicks and Cuts 2» задуман как доска почёта передовой электронной музыки. Как документ эпохи.
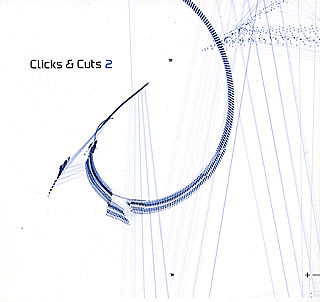
В первой же строчке комментария написано: «Ритм - это текстура».
Это заклинание (своего рода лозунг IDM) нам уже известно. Комментарий настаивает, что «ритмические иррегулярности закодированы и вдавлены в поверхность звука». «Поверхность звука» - это, действительно, неплохо сказано.
Так вот, оказывается, что клик (крошечный щелчок) никакой собственной текстуры, то есть никакой поверхности не имеет. Он очень мал, он - иголка, заноза, он - аудиоатом.
Клик обитает в пустоте, вокруг него ничего нет. Но сам по себе невыразительный и одномерный щелчок способен измерять пространство и время. Ведь часы, щёлкая, меряют время. Щелчки соответствуют чёрточкам на линейке. Сами чёрточки не имеют толщины и формы, но с помощью линейки эта форма может быть построена.
Тема точек, висящих в пустоте, кажется автору комментария бесконечной. Пунктир из аудио-точек изображает некую форму, которая находится за пределами мира звуков.
Именно в виде щелчков-импульсов информация передаётся вдоль сети нейронов.
Конструкция, построенная из щелчков - прозрачна и пуста.
Во взаимном расположение щелчков много случайного, неконтролируемого. Щелчки - это ошибки. Ошибки и случайности кристаллизуются и застывают.
Ошибки образуют ауру. Аура хип-хопа многим обязана звуку иголки, царапающей грампластинку - это тоже аудио-дефект.
Собственно, музыка, построенная из цепи случайных событий, хорошо известна нашей цивилизации, Джон Кейдж немало потрудился на этой ниве, но в сфере электронной, компьютерной музыки кажется вполне естественным стремление к гиперконтролю, к достижению высшего качества...
Музыка из щелчков - это движение в противоположную сторону, она состоит из звуков, с которыми зависает компьютер или семплер, то есть из звуков, которыми сопровождается прекращение нормальной работы системы. Эта музыка пуста, эта музыка абстрактна, эта музыка минималистична.
Музыка вообще перестала быть наукой о тональных интервалах, о конструкциях, построенных из 12 тонов. Программы, которые сегодня применяются для изготовления музыки, предполагают совсем иное отношение к аудио-материи. Фундаментальны операции: выделить фрагмент, скопировать во временное хранилище, вставить в новое место (ctrl-C, ctrl-V). Таким образом нарастает хрупкое компьютерное тело современной музыки...
Нет, этот пассаж выводит меня из себя. Я прекращаю цитирование комментариев к трёхчасовому альбому «Clicks and Cuts 2».
Должен признаться, что сборник «Clicks and Cuts 2» вовсе не изумляет ни своей теоретической частью, ни собственно музыкой.
Пресловутые клики - дигитальные царапины - на большинстве треков играют чисто декоративную роль, музыкальная конструкция продолжает оставаться вполне техноидной. Что имеется в виду под «ошибками», «случайностями» и «иррегулярностями» не очень понятно музыка звучит хотя и хрупко и прозрачно, но довольно самоуверенно. Щелчки семплированы и навешаны на довольно банальную ритмическую схему. Секвенсору, собственно, всё равно, какие именно сэмплы зацикливать. Я уже не говорю о том возмутительном обстоятельстве, что на некоторых треках вообще нет никаких кликов.
В целом же до уровня Овала, до его интенсивности, до его сложности, до его радикальности не дотягивает ни один трек на сборнике. И даже обложка компакт-диска пытается имитировать стиль обложек Овала - и тоже безуспешно.
Почему?
Ответ, казалось бы, ясен: как составляются такие сборники? С фирмы грамзаписи звонят музыкантам и просят поделиться ненужным треком. Самое лучшее и заветное никто, как правило, не отдаёт, а бережёт для собственного большого альбома.
В результате, общий уровень сборника неудержимо падает.
Кроме того, для концептуального сборника, то есть иллюстрирующего какую-то специфическую идею, подход, технологию, нужно крайне придирчиво отбирать предлагаемый материал, что в ситуации «ну, дай что-нибудь!», по-видимому, невозможно. В результате - три компакт-диска забиты довольно неплохой музыкой, показывающей, что музыкантам в общем-то наплевать на заявленную концепцию.
Лейбл Mille Plateaux занимал особое положение в середине 90-х, на нём выходила неизменно интересная, радикальная и новаторская электронная музыка.
Mille Plateaux - это лейбл-оппортунист, занятый выискиванием мест, в которых шевелится что-то интересное. Mille Plateaux очень хотел бы видеть себя в качестве, так сказать, команды высшей лиги, в которую приглашают особо прытких новичков, неплохо зарекомендовавших себя на никому неизвестных лейблах.
Но за последние несколько лет - как мне кажется, не без помощи интернета - ситуация изменилась в том смысле, что маленькие и далёкие центры активности стали не такими уж и далёкими.
И тем, кто интересуется новыми тенденциями и ищет информацию о них в сети, претензии Mille Plateaux на открытие каких-то неведомых далей, глубин и кликов кажутся просто смешными.
Очевидно, что Mille Plateaux ничего не открывает... и уж тем более не выращивает новое поколение музыкантов и не формулирует бессонными ночами неслыханные концепции, а поспешает налепить свою торговую марку на то, что уже благополучно существует.
Нет-нет, я вовсе не против агрессивной рыночной стратегии и не против захвата плацдармов, меня просто раздражает незатейливая комбинация чужого продукта, вполне обычного маркетинга и претензий на гиперсовременность и интеллектуальность.