Подведение итогов прошедшего музыкального года – странное занятие. Не смотря на то, что занимаюсь им далеко не в первый раз, лёгкое волнение и возбуждение, однако, испытываю. Ведь подведение итогов – это и отчёт журналиста о том, насколько хорошо он исполнял свой долг, насколько пристально смотрел вокруг себя и вдаль, насколько справедливо судил, насколько точно ясновидел.
Почитал я, что пишут коллеги по поводу 2003-го или, скажем, мои радиослушатели, владеющие таинством электронной почты, и у большинства выходит, что год ничем особенным не запомнился: приманки, которыми нас манили год назад, оказались обманками, а то, что нам самим нравилось, надоело. И стало мне обидно и неприятно, тем более что и сам я уже несколько лет примерно то же про каждый прошедший год говорю.
muzprosvet ---> итоги2002 (злоба по поводу начавшегося пения)
muzprosvet ---> итоги2001 (грусть по поводу бессмыслия электроники)
На этот раз мне захотелось сказать что-то ободряющее и позитивное – и не только из чувства протеста.
Самым значительным результатом прошлого, 2003-го года явилось то, что, наконец, закончились 90-е годы, кончилось то движение, начавшееся в 1988-м с появлением экстази и эсид-хауса на курортном острове Ибица. Сегодня 90-е от нас так же далеко, как и 80-е или 70-е. Разрыв с 90-ми подразумевает и разрыв с идеей семплирования, как универсального решения всех проблем, и разрыв с идеей, что барабанный бит плюс бас плюс мелодия – это и есть исполнение всех мыслимых музыкальных желаний.
Том Штайнле (шеф кёльнского лейбла Tomlab) в нашем разговоре высказал крайне любопытную мысль: сегодня мы живём в эпоху, в которую стремился Маркус Попп (он же Oval). Маркусу не нравилось, что техно-продюсеры используют ритм-машины – сегодня никто уже их не использует, Маркус ратовал за использование новейших компьютерных программ – и это реализовано, Маркус требовал расстаться с самой идей музыки и заняться саунддизайном (он называл то, что получится, музыка 2).
Сегодняшний мир электронной музыки – это именно то, о чём мечтал Маркус Попп 5-6-7 лет назад. Его мечта стала реальностью, мэйнстримом, и стало видно, какой это ужас.
Налицо признаки инфляции, производится слишком много альбомов, которые уже не возбуждают никакого желания их не то что покупать, а даже и брать в руки. Подавляющее количество музыки звучит хотя и мило, но моментально узнаваемо, то есть не очень интересно. А про то, чтобы какой-то недавно выпущенный электронный альбом можно было слушать годами – немыслимо и мечтать. Налицо парадокс – музыки выпускается очень много, а привязаться сердцем не к чему.
Так говорил Том Штайнле, а я ему поддакивал и думал о том, что если уж один из самых оригинальных проектов 90-х сегодня с раздражением воспринимается как «во всём виноватый», то скобка закрывается.
Почему она закрылась только в прошлом году?
Не только из-за того, что начали разоряться лейблы, дистрибьюторские фирмы и магазины звуконосителей.
Не только из-за того, что электроника стала безумно раздражать, а слова «электроника» и «электронная музыка» практически перестали встречаться в музыкальной прессе. А стали, наоборот, встречаться утверждения, что электроника – это искусственно раздуваемый бум.
Эти симптомы, конечно, существуют уже не первый год, но лишь в прошлом году, наконец, стала появляться (конечно, не в сногсшибающих количествах) на редкость убедительная и обладающая собственным характером музыка, не являющаяся продолжением генеральных линий развития 90-х годов.
Обратил на себя внимание альбом «Twinkle Echo», который изготовил американец Оуэн Эшуорт, хозяин проекта Casiotone For The Painfully Alone.

Конечно, Casiotone For The Painfully Alone звучит не неслыханно и далеко не шикарно, альбом не демонстрирует желания стать классическим, но дорог он мне совсем не этим.
Casiotone For The Painfully Alone показывает, где сегодня примерно проходит «линия фронта». Подражание кому бы то ни было или даже очевидная похожесть вызывает уже не скуку, а ярость. Хочется не семплирования, не того, что делать проще, а индивидуализма и ответственности.
Очень может быть, что 90-е – как единый логично развивающийся проект – закончились и много раньше, их конец был на редкость незрелищным и затянутым, но в прошлом году, как мне кажется, стал проявляться характер нового десятилетия.
Достоинство Casiotone For The Painfully Alone – вовсе не в том, что он звучит ново, а в том, что мы слышим человека, который до нас старается докричаться, и мы понимаем язык его жестов. И понимаем мы и то, что это – именно его музыка, его дело. У него есть глубокие внутренние причины делать именно такую музыку.
То есть проблема состоит не в том, чтобы прихотливо украсить свой уголок цветами, а в том – кто ты такой? Зачем это тебе, на самом-то деле, надо? Почему ты действуешь именно так, а не как-нибудь иначе?
На эти вопросы обратили моё внимание Франк Доммерт и Ян Вернер – рулевые лейбла Sonig.
Ян Вернер очень убедительно говорил, что у музыканта должен быть какой-то пунктик, что-то, что его крайне заботит, то место, где он особенно глубоко копает. И этот пунктик становится главной причиной, почему он вообще делает музыку. Тут немаловажно то обстоятельство, что музыка всё время не получается: того, чего тебе хочется, просто невозможно добиться. И в попытках всё-таки справиться со стеной неудач, кто-то доходит до своего уникального и другим не передаваемого понимания, что такое есть музыка и как её можно всё-таки ухитриться делать.
Речь идёт не столько о какой-то новой стилистической тенденции, сколько об иных отношениях между музыкантом, его музыкой и его коллекцией компакт-дисков. Сегодняшняя музыка это вовсе не акустика против электроники или сонграйтеры против минимал техно.
Сегодняшнюю музыку делают глубоко копающие серьёзные и ответственные индивидуалисты, медленно идущие своим крайне индивидуальным путём и не западающие душой на пустые красоты и внешние эффекты.
То есть серьёзные и честные люди против красоты и прочих глупостей.
Вежливо помолчав после такого заявления, отмечу, что в прошлом году кёльнский проект Niobe выпустил альбом «Tse Tse», который не только сам по себе удивил, но и позволил надеяться на лучшее будущее. Если это не магия, то в любом случае – обещание её возможности, что уже очень и очень неплохо по нынешним размагниченным временам.
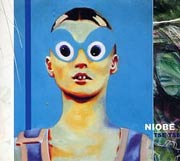
Полистав музыкальные журналы, я обнаружил, что лучшие альбомы прошлого года записали White Stripes, Zoot Woman, The Strokes, Blur, Mogwai, Peaches и Radiohead. Я подумал, что такие итоги года нам не нужны.
С новой волной новых гитарных групп даже и не хочется выяснять отношения. Разумеется, можно только приветствовать, что кто-то начал играть на реальных инструментах, колотить по настоящим барабанам, стараться попадать голосом в такт и одновременно брать при этом разные ноты – то есть возвращается ремесло делания музыки. Но если говорить не отвлечённо, то, как правило, этим ремеслом, то есть стремлением к некоей рок-красоте, дело и ограничивается. И в принципе, глупости и красивости, облечённые в форму рок-песен, ничем не лучше глупостей и красивостей, облечённых в форму электронных треков.
Ужасно раздражает и стилизаторство – то есть пресловутая ретро-тенденция.
Но виден некоторый свет в конце туннеля, правда виден он пока очень мало кому.
Речь идёт о явлении, обитающем в США, это, грубо говоря, гитарная музыка, ориентированная не столько на написание песен, сколько на импровизацию. В результате импровизации появляются, среди многого прочего, и песни. Но это песни вовсе не вымучены, они получаются как бы сами собой, как и музыка в целом.
Эти коллективы похожи на хиппи-коммуны начала 70-х.
Импровизация понимается не как игра виртуозов-инструменталистов, но как совместное медленное нащупывание пути.
Здесь очень радует принципиальное нежелание загонять себя в узкие рамки, работать внутри одного определённого стиля, выдерживать линию. Если уж действительно настала свобода гулять во все стороны и делать всё, что угодно, то к музыке можно относиться как к ответу на вопрос: как человек решил воспользовался своей свободой?
Называют новую тенденцию то free rock, то free folk. Мне кажется, что свободная музыка и открытая музыка – это спасительные идеи.
Очень благоприятное впечатление в прошедшем году произвёл альбом группы No Neck Blues Band.

No Neck Blues Band существует уже давно, да и альбом его был на самом деле записан уже три года назад. Кроме того, из всех многочисленных акустических составляющих больше всего оказалось развинченного кантри, получилась экологическая кантри-мантра.
А вот настоящим открытием прошлого года явился нью-йоркский проект Animal Collective, он делает музыку, вполне заслуживающую названия «радикальной».
Если я не ошибаюсь, в настоящее время на рынке – 4 его новых или вновь переизданных альбома. Ударный прошлогодний альбом называется «Вот пришёл индеец». Впрочем, «Песни у костра» тоже очень хороший.


Электроклэш в прошлом году вроде бы исчез, развалившись на две половины – агрессивную и более мягкую (я где-то видел, как они сегодня называются, но мне лень перерывать журналы и искать).
Слово «электроклэш» стало неприличным, но желание занудливо попеть под грубые звуки старых дигитальных синтезаторов, или просто под техно-хаус, вовсе не пропало. Тенденцию называют «electronic songwriters» - то есть «электронные песнеписатели». Лондонский проект The House Of Fix очень недолго казался свежим и изобретательным.
Приятно было не получать никаких известий о новых модных тенденциях из лондонских клубов, по слухам, там взахлёб слушают электроклэш и Chicks On Speed.
Техно-хаус в прошлом году быстро пережил краткий, но привлёкший к себе некоторое внимание период имитации jack-house (это ранний чикагский хаус, бытовавший ещё до эсида) и остановился на том, что получило название jack-tech. Микрохаус (хаус эпохи кликс-энд-катс), вроде бы, закончился.
Глядя вокруг себя, техно-люди – такие как скажем, Plastikman, DJ Hell или Дэйв Кларк – соглашаются, что период бури и натиска, то есть шока и главных открытий техно уже давным-давно позади. И чем дальше, тем негативнее сказывается оторванность техно от традиции чёрной музыки. Проще говоря, все запасы грува, фанка и соула практически исчерпались.
Прочитав это, я понял, почему мне так понравился альбом проекта Moodyman, за которым скрывается темнокожий житель Детройта Кенни Диксон Джуниор. В его музыке никакого обнищания, высыхания и перехода не режим строгой экономии вовсе не наблюдается.
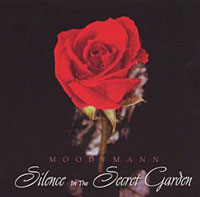
В прошлом году до моего запоздавшего уха дошла, наконец, весть о новом хип-хопе, который и, действительно, оказался, во-первых, интересным делом, а во-вторых, отлично вписался в мою концепцию новой эпохи – как эпохи поиска сопротивления материала.
Продукция лейблов Anticon и Def Jux заслуживает того, чтобы обратить на неё внимание. Белые рэпперы Aesop rock/Themselves заставили вздрогнуть и тем самым порадовали. У Aesop rock-а ещё и обложка замечательная, что всегда приятно.
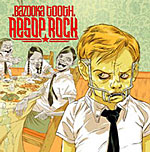
Сколько набралось всего? Animal Collective, Moodyman, Casiotone For The Painfully Alone, No Neck Blues Band, Niobe, Anticon/Def Jux, переиздание на Sonig грампластинок Hajsch «1992». Плюс музыка, выпущенная раньше, но принятая к сведению только в 2003, в моём случае это были гитаристы-импровизаторы Олаф Рупп (Olaf Rupp) и Ноэль Акшоте, квартет Polwechsel, опера Бенджамина Бриттена «Поворот винта» и опера Оливье Мессиана «Св.Франциск Ассизский» или традиционная музыка Йемена. Плюс музыка, выпущенная в 2003, но которая, возможно, всплывёт лишь через некоторое время.
У меня нет ощущения, что это был бедный год или что «сегодня ничего в музыке не происходит».
Самой громкой темой прошлого года была нещадно раздутая тема кризиса звукоиндустрии, которую ограбили проворные файлообменщики и выжигальщики компакт-дисков. При этом сложно сказать, что же происходит на самом деле, и кто и в чём именно виноват. С одной стороны, очевидно, что шум в прессе по поводу кризиса поднят концернами – они явно заинтересованы в том, чтобы эта тема не затухала. С другой стороны, кризис существует вполне реально – независимые лейблы чувствуют его очень остро.
При этом, удивительное дело, объём выпускаемой музыки в 2003 значительно вырос, то есть заклинание звукоиндустрии «чем меньше денег, тем меньше музыки» действительности не соответствует. Немецкий журнал De:Bug полагает, что только в разделе танцевальной музыки и электроники в прошлом году было выпущено 30 тысяч релизов, из них 20 тысяч – на виниле, то есть 50 новых грампластинок каждый день.
В прошлом году появилось как минимум 100 новых лейблов, многие же старые лейблы, которые существуют как минимум несколько лет, выпускали новый альбом раз в месяц. В прошлом году разразился и новый бум вокруг интернет-лейблов, которых тоже развелось много десятков. Иными словами, никто из-за кризиса оборотов не снижал.
Журнал De:Bug объясняет эту ситуацию так: кризис начался в 2002, но производители музыки его не заметили, на 2003 был запланирован и реализован рост количества наименований, в 2004-м должны начаться ужасы, рынок независимой музыки должен развалиться.
Независимая музыка – далеко не только электроника, но электронные лейблы доминируют, записать компьютерный альбом – проще, чем гаражный.
Появилось огромное количество никому не известных музыкантов. Идёт страшных размеров волна. Удастся ли кому-то из этой новой волны заявить себя в качестве «настоящих музыкантов», сказать сложно.
Кажется, что должен возникнуть эффект уходящего на дно Титаника – кто-то поймёт, что он не музыкант и что гораздо честнее просто слушать хорошую музыку, чем плодить дурацкую, кто-то будет упорно искать свой путь и уходить в сторону. А электронщики, не желающие понять, что «так музыку не делают», будут и дальше капризно замыкаться в своём мирке мелодий, ритмов и электронных звуков. И не понимать, почему от них все шарахаются, как уже давно шарахаются от поклонников транса и прогрессив хауса.
А что тут, собственно, можно не понимать? Электроника - это в большинстве случаев музыкальный спам сегодня.
январь 2004