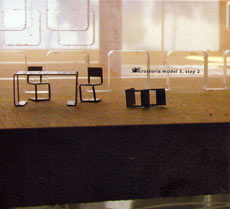|
Microstoria – это совместный проект Яна Вернера (Jan Werner, участник Mouse On
Mars), который живёт в Кёльне, и берлинца Маркуса Поппа (Markus Popp, проект
Oval).
Дебютный альбом «init ding» вышел в 1995, «_snd» - в 1996. В 1997-ом появился
сборник ремиксов «reprovisers».
Весной 2000 на сборнике «Sonig Comp.» был опубликован трек из грядущего
альбома, и вот буквально только что (декабрь 2000-го) появился новый альбом
«model 3, step 2».
Я как задумчивый удав обвиваюсь вокруг худощавого, пугливого и
деликатного Яна Вернера:
Это действительно новая музыка или мне это так кажется?
«Да, это совершенно новая музыка, раньше такого не было, это передний
край, это точно сегодняшний момент».
Но не всё-таки не Pan Sonic?
«Ты знаешь что такое Pan Sonic? – внезапно просыпается Ян, - Pan Sonic -
это рок. Знаешь, этот подход – резче, громче, дальше, круче... Одним словом,
«We are shocking you» («Мы вас поражаем»). Меня хардкор – хардкор в широком
смысле, то есть вообще всякий аудио-терроризм – больше не удивляет и не
шокирует. Мне просто неинтересно. Подлым или коварным экстремизм быть не
может. Если ты агрессивен, если ты в каком-то отношении хардкор, то ты весь на
виду, ты прост, ты злоупотребляешь каким-то несложным эффектом: при этом
важен не столько сам конкретный эффект, сколько факт злоупотребления – то
обстоятельство, что ты хочешь досадить слушателю. Но ведь это примитив. У
меня выработалась какая-то защитная реакция против акустического
экстремизма. Сложным и непонятным ты становишься, когда сохраняешь
видимость чего-то незатейливого и понятного».
Ну хорошо, а в чём именно состоит новизна этой новой музыки?
«В более сложных внутренних связях. Достигнут новый уровень сложности.
Ведь музыка многослойна, не так ли? Так вот, раньше ты всегда слышал эти слои,
ты мог их акустически разделить, всегда было понятно, что в каком слое
происходит. Теперь акустические комки трансформируются друг в друга,
параллельно происходит несколько процессов, каждый из которых
взаимодействует друг с другом.»
То есть, если говорить в терминах звуковых дорожек, - перехватываю я
инициативу, - раньше звуковые дорожки как бы не слышали друг друга, каждая
дудела в свою дудку, а теперь дорожки слышат друг друга и гибко реагируют друг
на друга?
«Можно сказать и так, - соглашается Ян, - в любом случае ни о каком
функциональном делении дорожек говорить не приходится – тут нет
ритм-дорожки, бас-дорожки, дорожки с – не знаю, чем – с духовыми, дорожки с вокалом,
или с тем, что его заменяет... Все дорожки равноправны, они заполнены звуками,
и мы изо всего этого дела вьём косичку».
Я могу попытаться рассказать тебе, как слышу эту музыку я. Во-первых, мне
очевидно, что это поп-музыка. Постоянно всплывают – или, может быть, лучше
сказать – кристаллизуются - какие-то элементы поп-песен: начало мелодии,
рефрен, брейк между двумя строфами... Но когда в обычной поп-песне неминуемо
наступило бы повторение, музыка Микростории почему-то уплывает в
неизвестном направлении. То же самое относится к так называемому
«естественному продолжению». За двумя аккордами, как известно, следует
третий: если ты схватил направление линии, то место, где окажется третья точка
достаточно очевидно. С музыкой Микростории этого не происходит: она не
повторяется и не продолжается естественным образом. И третья её характерная
особенность состоит в том, что она какая-то милая, наивная, нежная. Ещё
чуть-чуть и она станет незатейливой детской песенкой.
«Не согласен с тобой, - серьёзно говорит Ян, - Дети поют очень плохо, если
их не натаскивать и буквально не вбивать им в голову, как они должны петь, они
поднимут такой вой...»
Ну хорошо, Ян, - пытаюсь вразумить его я, - давай представим себе песенку
для детей, которую написал взрослый дядя? Под детской песенкой я имел в виду
простую песенку...
«Наша музыка очень сложна в гармоническом отношении, - упирается Ян, -
дяди таких песенок не пишут, скорее это ближе к фольклору... Кроме того, она
совсем не нежная... Мне один мой приятель – поклонник Брайена Ино, - сказал,
что сборник Sonig Comp. он может слушать только до четвёртого трека, дальше –
стена. Он не в состоянии разобраться, что к чему, это не помещается в голове,
говорит он... То есть ни о какой наивности или нежности говорить не приходится».
Ну, Ян, ты даёшь – начинаю потихоньку язвить я – нашёл кого
процитировать, поклонника Брайена Ино! Понятное дело, что ты – не Нью Эйдж. В
твоей терминологии, Нью Эйдж - это злоупотребление спецэффектом и посему
хардкор и рок. «Мы вас поражаем! Нью Эйдж!».
«Ещё что мне не нравится в твоей характеристике, - продолжает
упорствовать Ян, - так это то, что ты говоришь о каком-то перетекании форм...»
Да-да, - перебиваю его я – это эффект плазмы, акустической
сверхтекучести. Слушатель не может упорядочить это течение, разложить его в
простую схему элементарных связей. Я бы назвал всё вместе «психоделическая
колыбельная». То есть была какая-то это очень простая песенка, составные
кирпичики которой вдруг потекли, как капельки разноцветной ртути.
«Нет-нет - протестует Ян, - ты пытаешься объяснить мне, что моя музыка
неясна, расплывчата, а это не так. Эффекта неопределённости в ней нет».
Ты неправильно употребляешь слова! – почти ору я на немца, который
разумеется, лучше меня знает, какие слова его родного языка ему следует
употреблять. - Это очевидно, что эффекта неопределённости нет, что всё
кристально чисто, я же говорю – «ртуть», а не «комок ваты» или «запотевшее
стекло». Две сливающиеся капли ртути имеют чётко очерченную границу, ничего
неясного в этом нет, неясность возникает, когда близорукий смотрит на мир без
очков или сквозь запотевшие очки. Тогда можно говорить, что объектив не
наведён на резкость. В твоей же музыке – или шире - в новой поп-музыке, -
объектив на резкость наведён, всё прекрасно видно и слышно, только то, что
видно и слышно, невозможно свести к элементарным повторяющимся кружочкам
и треугольничкам, то есть редуцировать, упростить. Этот эффект я как раз и
попытался назвать словом «психоделический» - я имел в виду не столько
психоделический рок, сколько психоделические плакаты или обложки
грампластинок, знаешь, такие текучие и тягучие двуцветные полосы?
«В принципе ты прав, - выкидывает белый флаг Ян Вернер, - мы
действительно пытаемся избегать повторений и очевидных ходов, мы так сказать
сбиваем слушателя со следа, причём не обычного слушателя, а так сказать,
многоухого, который способен распознать несколько одновременно звучащих
простых песенок».
И даже такой не найдёт выхода из Микростории?
«Keine Chance, - улыбается Ян. – Ни за что».
Новая поп-музыка делается на компьютере. Что-то подобное может сделать
любой человек, вооружённый персональным компьютером.
МИДИ не употребляется, исключительно акустические файлы, или, как их
называет Ян Вернер, sounds.
Первый этап – поиск звуков. Ян ищет в Кёльне, Маркус Попп – в Берлине и
Париже. Когда они встречаются они садятся за один компьютер и пытаются
методом проб и ошибок приклеивать одни звуки к другим, то есть клеят чистый
коллаж. «Самое сложное, - говорит Ян, - это найти сложно устроенные звуки. Ты
часами слушаешь один и тот же акустический огрызок, и постепенно привыкаешь к
нему и начинаешь видеть его как бы изнутри: интересно он устроен или нет? Если
звук выдерживает испытание многочасовым прослушиванием, его можно как-то
использовать...»
Как? Вклеить в самое важное место трека?
«Ну, так не скажешь, каждый трек требует собственного подхода, у нас же
не конвейерное производство в самом деле... да и нет самого важного места... Но
в принципе, основные структурные отношения остаются: есть какой-то фон и есть
какие-то предметы на переднем плане, или, как сказал бы музыкант, –
«солирующие инструменты».
Мой рассказ о лейбле Sonig и о новом лице электронной поп-музыки вызвал у
радиослушателей скорее скептическую реакцию, дескать, хвалёная тобой
Микростория звучит никак уж не ново. Приговор: Микростория – это применение
старой даб-технологии, зацикленные музыкальные фрагменты (loops) и всё такое
прочее...
Я позвонил Яну Вернеру и потребовал срочного свидания.
Ян только фыркнул, когда я завёл речь о дабе:
«Не имеет к нам никакого отношения».
Постой, но ведь году в 1996 музыку Mouse On Mars называли нео-дабом и
нео-краут-роком?
«Это всё идиоты-журналисты, - взорвался Ян, - они пишут всё, что им не
скажешь. Как-то я написал в пресс-релизе, что Mouse On Mars - предшественники
Крафтверк и сильнее всех прочих на Крафтверк повлияли... и что же ты думаешь?
Много где это утверждение безо всяких комментариев всплыло. Да, мы назвали
один из своих треков «Future Dub» - мы шутили, нам вообще наплевать... но
смотри, через два месяца нам как первооткрывателям присылают на рецензию
какой-то трип-хоп-сборник под названием «Future Dub. Volume 1». Всё это помойка
и враньё».
Нет, постой, - завожусь я. – Я в своей бессмертной книге собственноручно
написал, что новое техно делается из зацикленных звуков, которые берутся не из
стандартной ритм-машины, а из, так сказать, окружающей нас жизни. И,
безусловно, эта технология имеет отношение к дабу.
«Всё не так, - засверкал глазами Ян Вернер. – Во-первых, даб не имеет
отношения к зацикленности, к применению, того что называется loop. Loop – это
техническое понятие, оно связано с минимализмом... А даб – это саботаж
существующей и исправно функционирующей музыки регги. Музыка регги очень
энергетична, интенсивна, поэтому и результат её демонтажа – тоже очень
интенсивен. Loops – то есть постоянно повторяющиеся акустические петли - здесь
не при чём.
Что же касается техно, то я к техно не имею никакого отношения. Техно - это
идеология, концепция: музыка берётся из машины. Точка.
У техно-продюсера не возникает сомнения, что в этом подходе что-то не то. Если
ритм-машина 909 прёт вперёд, то, значит, это то, что надо, это - музыка, это -
техно. Просто потому, что Roland 909 уже включён.
Я же вообще ни в чём не уверен и во всём сомневаюсь. Никаких гарантий нет, мы
движемся в состоянии полной непредсказуемости. Как я могу использовать
зацикленные акустические блоки, когда я не знаю, сколько раз их нужно повторять
– два, четыре, семь? И почему вообще повторять? Понимаешь, тот, кто повторяет
звук в цикле, тот уверен: вот машина повторяет, трек растёт, музыка прибывает,
это хорошо. А я в этом совсем не уверен. Я не могу доверить принятие решений
машине. Понимаешь?»
То есть ты хочешь сказать, что в твоих треках нет никаких loops?
«Я хочу сказать, что не имеет это никакого значения, что не помню я, что
там есть, а чего там нет, процесс этот во многом случайный, и такой примитивной
разгадки – найди классный огрызок, повтори его сто раз и получится классная
музыка... – уже давным-давно нет.
Если ты такой зануда – называет вещи своими именами Ян Вернер, - то я тебе
скажу – мы не используем секвенсор, мы не зацикливаем sounds, мы ничего не
повторяем... просто потому что проблем много, но нет такой проблемы, решением
которой было бы повторение. Loop неисправимо статичен, повторив фрагмент, ты
отнимаешь у него жизнь, из музыки исчезает движение... Но я не хочу сказать, что
моя цель – движущаяся музыка. Всё это неважно...
Важно, что мы находимся на плаву и дёргаемся из последних сил, нам не на что
опереться, мы не знаем, что такое музыка, как она звучит и кому вообще нужна?
Какой там даб? Причём тут даб?
Вы, журналисты, сильно упрощаете себе жизнь, подыскав термин... а мы вовсе не
пытаемся валять дурака и не давать вам ясных ответов... мы просто не пытаемся
упрощать себе жизнь. Но до вас - до музыкальных журналистов - невозможно
донести простую идею, что гарантий нет, что ситуация хаотична и
непредсказуема, что всё называется не своими именами, что результат
оказывается прямо противоположным тому, на который ты рассчитываешь...»
А на что ты рассчитываешь? – перебиваю я Яна.
«На аналитического слушателя, на такого который не просто слушает, но и
думает... Понимаешь, мне мало, что музыку слушают, как музыку. Я имею в виду
такой ход мысли: Ну вот, это музыка, она для того, чтобы её слушать, вот я её и
слушаю... Человек должен себя спрашивать: почему я это слушаю? Почему это
вообще записано? Что это? Я воспринимаю свою музыку как речь, обращённую к
слушателю».
Кстати, о речи, - радуюсь я повороту темы. – Рискну высказать
предположение, что музыка Микростории кажется близкой, понятной и знакомой,
потому что она как раз чересчур человечна. В ней можно расслышать фразы,
паузы, изменения интонации. Грубо говоря, я хочу сказать, что принцип
построения твоей музыки – фразировка... это слово из джаз-лексикона. Знаешь,
басист Чарльз Мингус был мастером так называемого «разговаривающего баса» –
talking bass. Он извлекал из своего инструмента такие акустические загогулины,
которые звучали как фразы человеческого языка: он что-то спрашивал, отвечал,
заикался, возвращался к прерванной мысли, кричал... А саксофонист Эрик Долфи
ему отвечал. Это было похоже на то, как два старых приятеля разговаривают или
скандалят с закрытыми ртами. Ещё чуть-чуть и ты начнёшь разбирать слова, но и
так понятно, о чём они говорят... Я имею в виду, скажем, концертный альбом
«Mingus In Europe».
И Телониус Монк пропускал аккорды пьесы, отчего те аккорды, которые он брал,
превращались в как бы висящие в пустоте незаконченные реплики, похожие,
знаешь, на греческие скульптуры без рук без ног... Мне кажется, что Микростория
идёт примерно этим – признаемся, довольно традиционным - путём.
«То, что ты говоришь, не лишено смысла, - задумывается Ян Вернер. –
Визуальные аналогии часто бывают интересными... Но это лишь один из способов
интерпретации. И повторю, нам не на что опереться, даже на предложенную
тобой аналогию. Она тоже ничего не гарантирует, она висит в воздухе, ей самой
нужно на что-то опереться...»
Ты прав... посмотри, то я сравниваю твою музыку с потоком, причём
с каким-то мне самому не очень понятным психоделическим потоком, то с недоломаной
древнегреческой скульптурной группой... и при этом аккуратно обхожу вопрос,
почему современная музыка должна походить именно на античные скульптуры, а
не на, скажем, ксилографии Альбрехта Дюрера или на схему линий лондонского
метрополитена... Все эти разговоры – дикий произвол и высасывание из пальца.
«Как раз поэтому мы вообще не используем никаких вспомогательных
картинок, записей, схем, никак не нотируем нашу музыку, – говорит Ян. – И в
любом случае, сравнение с потоком вызывает у меня интуитивный протест. Наша
музыка – не поток, который течёт сам собой... Наша музыка – это саунд-дизайн.
Она устроена, организована, я вовсе не наклоняю какое-то ведро, через край
которого потекла краска...»
То есть ты – не Джексон Поллок. – радуюсь я. – Кстати, твои слова
относительно принципиальной гарантированности успеха техно-производства
вполне относятся и к эмбиент-потоку. Техно получается из тупой машины –
вращающегося маховика, а переливающийся всеми красками эмбиент-поток – из
наклонённого ведра: включай машину, наклоняй ведро – и всё получится само
собой. А музыка проекта Microstoria очень хрупкая. Эпитет «хрупкий» применим,
скорее, к карточному домику, чем к потоку. А вот нойз – хотя нойз, конечно, не
единственный представитель текущей музыки – невыносимо прочная и
безошибочная музыка. Может ли нойз не получиться? Не думаю...
«Именно поэтому нойз всегда был для меня подозрительным, – говорит Ян.
– В нём слишком много такого, чего ты просто не слышишь. Он дико
перегружен...»
То есть ты имеешь в виду, что нойз ужасен не тем, что ты слышишь, а тем,
что ты в нём семьдесят процентов звуков вообще не слышишь?
«Ну, да. Шум – это высказывание, которое заведомо никто не сможет никак
воспринять. Это отказ от коммуникации. Если ты сейчас мне скажешь что-нибудь
по-русски, то я тебя не пойму, но оценить, что это осмысленная человеческая
речь, всё-таки сумею. Интонация, мелодика речи, ритм, тембр всё равно
остаются...»
А если я завою, пущу слюни и затрясусь, то подозрения, что это может
что-то значить, не возникнет.
«Да-да, чистый noise, грохот, Merzbow – это вовсе не провокация, не
скандал, не подрыв устоев. В нойзе масса путаницы, непрожёванности, сырости.
Вот, скажем, Бетховен, в нём я слышу много нойза. Когда играет большой
оркестр, всё слипается в ком, структура сминается, начинает давить какая-то
каша, доминирует что-то неструктурируемое, необъясняемое... очень
невозделанная, внекультурная стихия. Нойз – это разрушение, страсть к
разрушению, пафос разрушения. Я не могу сказать, что я не одобряю нойз. Нет,
он мне симпатичен. Нойз – это несдержанность, неряшливость, вульгарность.
Благозвучие и сладкозвучие можно сдержать только нойзом...»
Но если для тебя музыка – это речь, обращённая к слушателю, то не
окажутся ли вкрапления шума и грохота просто дубинкой, которой ты время от
времени бьёшь его по голове, чтобы несколько компенсировать изящество и
благозвучие твоего языка?
«Ты прав, – тонко улыбается Ян, – нойз, порезанный на порционные
кусочки, куда более опасен, он обладает более мощным подрывным
потенциалом, никакой путаницы или взаимонепонимания здесь уже не возникает.
Микровставки нойза придают музыке трезвости, материальности, здешности,
опасности... Нет-нет, я, разумеется, не имею в виду шум, то там, то сям
налепленный на музыку как фиговый листок. Я хочу сказать, что музыка,
снабжённая нойзом, близкая нойзу, не отмытая от грязи нойза, становится более
наглой, смелой, непредсказуемой. Она в любой момент может что-нибудь
выкинуть и спрятаться в нойз, она в любой момент может сделать тебе больно».
декабрь 2000
|
|

фото:Андрей Горохов
это We are shocking you! или уже немножко easy?
|
| |
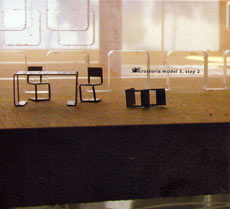
обложка новой Микростории. тема стульев и ковров. предыдущая фотография (сделанная году в 1995)
кажется пророческой
|
| |

мне кажется, этот рисунок неплохо иллюстрирует пару вещей:
первое: что такое многослойное звучание (изображение) с перетекающими друг в друга слоями,
второе: как хрупкость сочетается с текучестью
и третье: что такое easy-noise. рисунок изображает двух дам, одетых в костюмы начала века -
то есть это, определённо, easy-тема, но изображение всё-таки достаточно шумное... однако не настолько, чтобы быть хардкором
|
|
|