Эрон Бергман и его жена Алехандра Салинас (Aeron Bergman, Alejandra Salinas, музыканты, стоящие за лейблом Lucky Kitchen) в октябре 2001-го посетили Кёльн: они дали серию концертов в Бельгии, Германии, Голландии и Великобритании.
Отправляясь на интервью, я хорошо подготовился - впрочем, это было не очень сложно. На интернетовском сайте Lucky Kitchen (www.luckykitchen.com) можно обнаружить своего рода периодическое издание - музыкальный журнал со статьями и даже рецензиями на компакт-диски.
В этом журнале (в его последнем, осеннем выпуске) я обнаружил статью Эрона Бергмана, посвящённую знаменитому опусу Джона Кейджа «4'33''». Напомню, что в этой фортепианной пьесе, исполненной впервые в 1952-ом году, пианист вообще не должен касаться клавиш своего инструмента. Публика, находящаяся в концертном зале, слушает то, что в обычную фортепианную музыку не помещается - шумы, скрипы, дыхание соседей...
www.luckykitchen.com/tliyl/fall01/essay/433.html
Статья Эрона большая и содержательная, я же попробую воспроизвести несколько тезисов, несколько огрубляя мысль автора. Спешу сразу сообщить, что Эрон Бергман изучал историю и теорию искусств в нескольких университетах Европы и Америки, поэтому в материале вполне разбирается.
Так вот, он утверждает, что, сам по себе, опус Кейджа не продемонстрировал ничего особенно нового и революционного, то есть того, что ещё не было известно предыдущим поколениям авангардистов. Кстати, именно поэтому опус Кейджа вызвал интерес в первую очередь в среде публики, не осведомлённой в достижениях музыкального авангарда, особенно - в среде художников. То есть сочинение Кейджа имело, скорее, воспитательное значение.
Опус Кейджа был понят так: и музыка, и шум равны в своих правах, никакой разницы между музыкой и шумом нет.
Хорошо. Допустимо применять любые звуки. Этот урок был усвоен. Какие выводы были сделаны, где мы сейчас находимся?
Академическая музыка 25 лет находится в отпуске.
В поп-музыке доминирует бит. Короткие куски нойза или гармоничные аккорды клавишных вставлены в жёсткую ритмическую сетку - не важно, насколько шумным был исходный материал, музыка структурирована на компьютере, и сама по себе эта структура никакой проблемы не представляет. Набор правил вмонтирован в интерфейс компьютерных программ. Успех у посетителей Love Parade-а гарантирован.
Авангардный нойз есть прямая реализация идеи «шум - это музыка». Существуют правила, как этот шум делать.
Импровизаторы, наследники свободного джаза, тоже заняты изготовлением акустического хаоса и беспорядка. Свобода или футуристические утопии при этом уже не вспоминаются, в импровизационной музыке «свобода» оказывается полной анархией. Импровизационная музыка тоже связана с воспроизведением клише и догм.
Иными словами, хаотичны ли звуки или жёстко организованы, шумны или, наоборот, музыкальны в традиционном смысле, результат один: изготовление музыки сегодня - дело техники, применяй правила, получишь желаемую форму.
Так, не пора ли вернуться к опусу Кейджа и задуматься, что же всё-таки Кейдж сделал на самом деле? - спрашивает Эрон Бергман.
Для него пьеса «4'33''» - это иллюстрация того, что между нотами традиционной тональной музыки, между ступенями, по которым она шагает, разверзаются бездонные пространства звука.
Тут Эрон вспоминает Иммануила Канта. Кант описал встречу человека с чем-то величественным, грандиозным, возвышенным - звёздная ночь, или страшная битва, или шторм с громом и молнией... человек сначала напуган открывшимся зрелищем, а потом, когда понимает, что опасности для него лично никакой нет, заключает событие в понятные рамки, упрощает его, описывает его знакомыми словами.
Аналогичным образом, композиторы применяют нотную запись, чтобы упростить бесконечную сложность звука, сделать его близким, понятным и контролируемым. А Кейдж показал невозможность овладеть звуком при помощи нот: между нотами заключена бездна. Таким образом, Кейдж возвращает нас от описания шторма в его пучину.
Эрон Бергман пишет, что, возможно, музыкальная нотация - это средство справиться со страхом, ведь звуки, которые находятся между нотами, звуки, которые не попадают в музыкальную систему, воспринимаются в качестве странных, незнакомых, пугающих. Чтобы уменьшить ужас - ужас перед огромным количеством открывающихся возможностей - композиторы ограничивают свои возможности, прибегая к хорошо известным инструментам, тональностям, аранжировкам и прочим вещам, которые по рукам и ногам опутали западную музыку.
У этого текста есть два заключения.
Первое пессимистичное:
Кейдж полагал, что порвал с правилами, путами и западнями, объявив, что никакого шума нет, есть только саунд. Но это привело к появлению новых правил. Свежего воздуха как не было, так и нет.
Второе заключение слегка менее пессимистично.
Эрон Бергман пишет, что ностальгия находится в природе человека. Человек считает нормальной, естественной, привычной, не вызывающей возражения ту музыку, которую он слышал в детстве, которую его научили слушать. В результате, мы просто не слышим ничего остального.
«Каждый хочет быть дома в хорошей компании, в которой тебя понимают, с хорошей едой, хорошими историями и хорошей старой мелодией, которая служит саундтреком будничной жизни. Собственно, Кейдж хочет сказать: расслабься, радуйся тому, что тебя окружает, наблюдай за теми маленькими деталями, которые делают жизнь стоящей того, чтобы её прожить, и позволь остальным заняться тем же самым. Занимайся немного музыкой, чтобы выразить себя, и не относись к себе слишком серьёзно, потому что все мы - не более чем пыль на ветру.
Если тебе хочется, ты можешь сделать строгую и несгибаемую религию из этого тезиса, но это исказит смысл того, о чём идёт речь. Жизнь слишком коротка для догм. Жизнь и для того слишком коротка, чтобы каждый вечер есть с ложки разогретый в микроволновой печи поп-мусор».
Текст мне, честно говоря, понравился: я тоже считаю, что введение шума и случайности освобождения в музыку вовсе не принесло. Возникла новая статичная ситуация, точнее говоря, возникло много неспособных к развитию ситуаций.
Оценил я и то, что Эрон ищет позитивный выход, но вот предложенное им решение - заняться музыкой понарошку, между делом, как одним из многих дел, которые приносят удовольствие и развлечение... - мне совсем не понравилось. Хотя я понял, что название его лейбла Lucky Kitchen («Счастливая кухня») программно.
Ну, хорошо, будет о чём поговорить при встрече, решил я.

Эрон невысок, худ, носит очки, и выглядит, скажем так, довольно неувесисто: телесной радостью жизни он явно не пышет. Держится серьёзно и насторожённо. Он интересный собеседник, не уходящий от острых вопросов.
Алехандра - маленькая черноволосая особа, по сравнению с ней Эрон - настоящий верзила. Алехандра производит несколько игрушечное впечатление, она говорит неправдоподобно высоким голосом, живо реагирует на происходящее, часто смеётся... в одном из своих интервью она характеризует себя как «испанскую деревенскую девушку».
Эрон и Алехандра очень непохожи друг на друга, тем не менее, они уже несколько лет вместе делают музыку. Эрон серьёзен, сух, теоретически подкован, Алехандра - маленький кусочек жизни рядом с ним.
Я спросил, какая идея, концепция стоит за лейблом Lucky Kitchen.
Эрон ответил: «Мы не любим слово «концептуальный», но идея, безусловно, присутствует. Мы отрицаем важность формализма. Формализм - это опасная вещь. Формализм завёл в тупик живопись уже много лет назад.
Формализм полагает, что форма в произведении искусства куда более важна, чем идея...»
«Мы слишком сильно любим объект, чтобы называть его «концептуальным» - говорит Алехандра, - мы любим холст, мы любим звуки, мы любим компакт-диск, мы любим картонный пакетик, в которой он лежит, рисунок на обложке... Для нас очень важно содержание...»
«Может быть, концепцию, стоящую за Lucky Kitchen, - продолжает Эрон, - я бы описал так: у нас есть идеи, и эти идеи связаны с окружающим нас миром, они не игнорируют окружающий мир. А формализм склонен полагать, что искусство находится в стерильной ситуации, играет с чистыми абстрактными формами. Самой главной была формальная структура, композиция... идея, которая за этим стоит, смысл - не имели никакого значения».
«Формалист говорит о саунде, - говорит Алехандра, - саунд становится чем-то живым и автономным, саунд что-то делает, движется, меняется... Мы не хотим говорить о саунде, мы хотим говорить о том, что тот или иной саунд значит, мы хотим говорить о жизни».
«Саунд - это средство выразить что-то, представить твою идею, но не цель сама по себе», - соглашается Эрон.

ОК, - говорю я, - давайте не будем говорить о саунде, давайте будем говорить о жизни, об идеях.
«За каждым компакт-диском - своя идея» - отвечает Эрон.
Я попытался выяснить, какая идея скрывается за его альбомом «The Story Of The Unhappy American» («История несчастного американца»).
Если я правильно понял моего собеседника, темой его работы явилась парадоксальная ситуация - после всех войн, ужасов и разочарований, после лжи средств массовой информации, после несчётных волн пропаганды, которые обрушились на человечество, человеческий голос утратил своё значение, человек уже ничего не может просто взять и рассказать, всё, что он говорит, становится фантастикой, вымыслом, утопией...
Формально этот альбом - это рассказ о том, как человек идёт из дома на работу, он что-то видит, что-то вспоминает, но на самом деле это рассказ о том, что ничего нельзя рассказать, всё, что ты ни скажешь, будет описанием какой-то невозможной, фантастической ситуации, которой никогда не могло быть в действительности.
Рецензию на альбом можно найти здесь.
Я попытался выяснить, почему эту историю сопровождает именно электронная музыка, а не, скажем, гитарная.
Эрон ответил, что компьютерная музыка - часть идеи: «Компьютеры воспринимаются как инструмент, они помогают человеку чем-то управлять, распоряжаться материалом, строить форму. Но на самом деле компьютеры - это инструмент господства, господства над природой. На компьютере не только обрабатывается звук - скажем, звук гитары... нет, на компьютере делаются все звуки, компьютеру не нужна гитара, компьютеру кроме него самого больше ничего не нужно. Это очень высокомерная позиция, очень тоталитарная.
У нас противоречивое отношение к компьютеру, вы его не восхваляем, мы, скорее, его боимся, но с другой стороны, мы без него - как без рук, я восхищаюсь своим компьютером.... Это странная ситуация, компьютер явно накладывает ограничения, определяет моё поведение, моё мышление, но я всё равно пытаюсь применить его в своих целях...»
Вы можете делать музыку без компьютера?
«Мы не хотим делать музыку без компьютера».
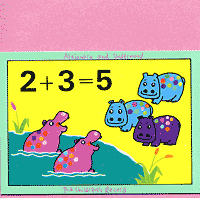
Я спросил, какая идея скрывается за компакт-диском «The Children's Record» - «Детский альбом».
«Мы жили тогда в Нью-Йорке, - рассказала Алехандра, - и захотели записать песни, которые мы помним с детства... потом звуки, которые напоминают нам о нашем детстве - когда мы были детьми, мы ничего, конечно, не записывали, но мы можем попытаться бросить взгляд в своё детство... Когда ты поёшь песню, слышанную в детстве, ты вспоминаешь многие вещи, они встают перед твоими глазами... Разные люди поют разные песни... ирландцы в детстве слышат морские песни, многие американцы - песни про лошадей... французы поют совсем иные песни...»
«Эрон, ты пишешь о Канте, Кейдже, о проблемах западной цивилизации и выпускаешь альбом детских песенок, которые поют твои знакомые или просто случайные люди на улице... Ты не находишь, что это резкое изменение масштаба? Что ответ не соответствует размерами поставленному вопросу?»
«Да, наши идеи, наши темы - маленькие, частные... Но что значит «маленькие»? Маленькие по сравнению с чем? С Pan Sonic?»
«В своей статье ты ставишь вопрос, говоришь о тяжёлом и старом кризисе, но в своей музыке ты понижаешь уровень претензий, как будто ты ничего и не спрашивал...»
«Какого ответа ты хочешь? - удивляется Эрон, - Как ты можешь ожидать от двух людей ответа? Это не такой вопрос, на который может быть ответ».
В западной индивидуалистической цивилизации, - возражаю я, - от художника традиционно ожидается ответ на глобальные вопросы.
Эрону на помощь приходит Алехандра: «Ответ-то хорошо известен, делай электронную импровизационную музыку, clicks & cuts, дигитальные шорохи и царапины... и все будут только рады. Мы не хотим этого делать, мы хотим делать то, что важно для нас. Ну, не можешь же ты рассчитывать, что мы, в самом деле, починим то, что разболталось в мире музыке... и развитие пойдёт дальше. Мы делаем то, что важно для нас, и надеемся, что ты будешь делать то, что важно для тебя...».
«Может быть, ответ состоит в том, - говорит Эрон, - что вместо фиксированного набора правил следует придумывать временные правила, которым некоторое время следовать, а потом их бросать.... Собственно, писать манифесты, предлагать какие-то решения смысла не имеет, кто сейчас обращает внимание на манифесты? Они будут тут же преодолены и отброшены. Дело вовсе не в том, чтобы выбирать - я играю по таким-то правилам, или по другим, или вовсе без правил, а в том, чтобы понимать: правила, структура, форма - это только часть единого целого. Ты должен поддерживать равновесие между формой и содержанием, ты не можешь выносить за скобки окружающий мир...»
Алехандра привела мне ещё один пример осмысленного подхода к музыке. Колокола в Испании. Это не просто звуки. В маленькой деревне каждый колокол связан с каким-то конкретным человеком, он напоминает о ком-то, кто уже давным-давно умер. Бабушка Алехандры ещё помнит имена тех людей, о которых напоминают колокола, собственно, в её деревне они только ей одной что-то и напоминают.
Эти колокола стали темой нового альбома Алехандры и Эрона. Они записали звуки колоколов, рассказ старой синьоры, какие-то ещё звуки... То есть в начале была идея, история, ситуация, потом был собран документальный материал, затем были приняты решения, в какую форму этот материал облечь, что с чем скомбинировать, что обработать на компьютере, как разместить акценты...
«Мы могли бы стать писателями, - говорит Эрон, - и всё описать словами... Но мы любим музыку, звуки... звук воздействует на тебя по другому, чем слово... у звука другие возможности... то, что выражает звук, словами часто не скажешь...»
Колокольный альбом Эрона и Алехандры ещё не издан. Он полон пауз, провалов, каких-то невнятных шумов, разного рода электронного звона... на музыку, которая куда-то уверенно идёт, эта запись совсем не похожа.
«Звуки пробуждают воспоминания - говорит Эрон, - я много раз замечал, что, когда я слушаю свои старые записи, которые я делал с микрофоном в руке, у меня перед глазами встают живые картины: что я в этот момент видел, что я чувствовал...»
Но это у тебя встают, - капризничаю я, - а у меня записанные тобой звуки никаких скрытых ассоциаций не вызовут, твои звуки слишком сильно встроены в твою жизнь... я даже подозреваю, что эта запись с деревенскими колоколами будет воспринята просто как эмбиент-музыка...
«То есть ты хочешь сказать, что у каждого - свои воспоминания, свои проблемы, свои детские песенки и наши воспоминания и песенки никому не интересны? - спрашивает меня Алехандра. - Нет, наши проекты вызывают интерес, потому что мы каждый раз затрагиваем темы, которые понятны людям, люди могут представить себя внутри нашей темы, нашего рассказа... Кроме того, для кого пишутся книги? Тоже не для всех. А для тех, кто даст себе труд прочитать, понять, почувствовать, вжиться... Почему меня так волнует эта книга? Какое мне, к чёртовой матери, дело до этих людей? Если для тебя это эмбиент-музыка - значит, ты сам виноват. Есть много людей, для которых это не эмбиент-музыка».
«Эмбиент - это метод, мы можем его применять для реализации своих идей, - говорит Эрон, - мы не отказываемся от эмбиент-музыки... но то, что мы делаем, это не эмбиент-музыка. Сложно объяснить, почему. Наши идеи, вообще, сложно объяснить... Именно поэтому мы и делаем музыку, мы не можем всё сказать словами. Мы запишем чью-то речь, напишем текст, запишем музыку, нарисуем картинку для обложки... и надеемся, что в результате сформируется образ чего-то целого, того, что мы хотим показать».
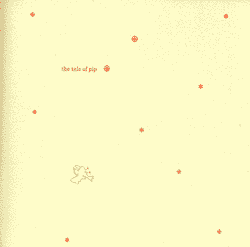
Alejandra and Aeron «The Tale Of Pip» (2001).
Это известная английская сказка.
С точки зрения Эрона - это плохая сказка: «Она показывает, что всем англичанам с детства свойственна идея, что англичанин - куда выше и значительнее, чем всё остальное вокруг него - выше, чем другие люди, выше, чем растения и животные... так относится к окружающему миру колонизатор... английский парк - пример природы, втиснутой в рамки, человек стремится контролировать всё, распоряжаться всем, называть что-то белым, что-то - чёрным, поднимать грубое до прекрасного, облагораживать природу...»
Рубить хвосты спаниелям? - подаю я голос.
«Да, именно, - продолжает Эрон, - это так высокомерно, это пугает. Мы рассказываем маленькую детскую историю, но за ней скрывается многое. Кроме того, мы эту историю препарировали, мы поступили с ней самой как англичане со своим садом - мы вырезали и переклеили фрагменты текста... это видно в книжечке, которая приложена к компакт-диску. История осталась узнаваемой, каждый англичанин её узнает, но мы её гипертрофировали, её смысл стал куда более кошмарным. Эту историю знает каждый англичанин, кого мы не спрашивали, всем она известна... то есть эта история продолжает оказывать воздействие, продолжает влиять на то, какими глазами англичане видят мир. Я не думаю, что наша книга, музыка привлекут к себе внимание или что-то изменят... но мы чувствуем, что наш долг сказать: это - мерзкая история».
На компакт-диске «The Tale Of Pip» мать Эрона читает фрагмент текста. Потом следует музыка, потом опять текст, и так далее. Кстати, звучит совсем другой вариант истории, чем тот, что содержится в буклете.
«Всё в целом похоже на радиотеатр или аудио-книжку для детей, - говорит Алехандра, - текст, потом иллюстрация».
«Да-да, - подтверждает Эрон, - музыка иллюстрирует то, о чём только что было рассказано».
Можно ли считать, - спрашиваю я, - что именно в этом и содержится ваш ответ формалистам? Музыка, ставшая иллюстрацией в детской книжке, музыка, привязанная к повествованию, к конкретному эпизоду, музыка, встроенная в маленькую историю, то есть находящаяся на подчинённом положении?
Эрон не ответил «да». Не ответил он и «нет». Он тяжело задумался. Потом мы поговорили о Нью-Йорке, об электронной музыке, об Испании, где они теперь живут, о том, почему так много художников занялось музыкой...
Когда мы расставались, Арон сказал, что он всё ещё думает над моим вопросом, и он должен признаться, что не знает на него ответа. Мы поговорили об идеале высокой музыки, абсолютной, чистой музыки, о формализме, о проблеме композиции... Эрон сказал, что, похоже, мы ничего не можем противопоставить формализму. Мы можем постараться не врать себе и делать скромную, маленькую музыку, плодить фольклор электронного века.