Цифровой фотоснимок во многих отношениях отличается от старого, аналогового. Цифровое изображение – куда более яркое, контрастное и резко очерченное. Но одновременно оно – и куда менее атмосферное, менее пространственное: у него нет воздуха и нет глубины.
Любопытным образом, то же самое можно сказать и о нашем сегодняшнем восприятии музыки. Компакт-диск (носитель цифровой записи) приблизил к нам каждый элемент музыкальной панорамы и музыкальной истории: музыка европейского барокко, музыка японских психоделических рок-групп, музыка туарегов или латиноамериканского джаза уравнялись в правах. Все эти музыки выглядят одинаково и даже имеют одинаковую длину, час звучания компакт-диска – это стандартный «порционный кусок». Вся она – стерео, вся она неплохо звучит, всю её можно найти в интернете.
Чего же нет? Какой аналоговой атмосферы сегодня нет, какого такого пространства? Аналоговый – значит непрерывный, а пространство компакт-дисков состоит из отдельных точек. Этих точек-компакт-дисков много и становится всё больше, но между ними – ничего нет.
Если нет компакт-диска, нет и музыки, не о чем говорить, появится диск – послушаем. Общей картины новый диск в любом случае не меняет.
А раньше, ещё совсем недавно, у каждого музыкального события была длинная предыстория, между отдельными музыкальными событиями зияли большие расстояния. Отдельные музыкальные произведения были окружены аурой.
Тот, кто чувствовал, что в воздухе что-то носится, искал... и при этом сам не знал, чего ищет, какие такие записи.
То, что опус Терри Райли «In C» (= «в тоне До») появился в 1964-ом, вовсе не значит, что вот он появился, музыкальные критики поскребли затылки, журналы его отрецензировали, а меломаны поспешно приняли к сведению, и таким образом провернулось колесо музыкальной истории. Ничего подобного. Тогдашняя эпоха с современной точки зрения напоминает пустыню, причём ночную пустыню – вокруг ни черта не происходит, а когда где-то что-то произойдёт, то никто этого не заметит или заметит через много-много лет. Опус «In C» был в 1964 сочинён, повлиял на многих композиторов – в качестве идеи, а вышел на грампластинке в 1968. Заметить «In C» Терри Райли в конце 60-х – это было очень неплохо в смысле осведомлённости в новых тенденциях.
Когда представишь себе эту ситуацию, то слово «революция» кажется не очень адекватным: что же это за революция, обнаружить которую может только археолог?
Не очень понятен нам и смысл этой революции – такого сорта музыки сегодня известно много, не говоря уже о том, что маниакальные петли звука, кажется, сами собой бесконечной аморфной массой ползут из каждого персонального компьютера. Было много «такой музыки» и в докомпьютерную эпоху – в центральной Африке или Индонезии.
Но одна дело – такая музыка где-то была, и совсем другое – кто её имел возможность до неё дотянуться? Нам сегодня сложно оценить, как и кем в 60-х в разных местах – в Европе и США, в разных городах, в разных богемных тусовках – воспринимались свободный джаз, индийские раги, поэзия битников, живопись Джексона Поллока и музыка Карлхайнца Штокхаузена.
Сериализм – то есть тот фундамент, на котором покоился европейский авангард – давил своей теоретической сложностью, серьёзностью и неисполняемостью.
В США пошла волна контркультурного свободомыслия, тенденция к радикальному упрощению. Похоже, у Штокхаузена был невроз на тему, что музыка ни в коем случае ни в каком виде не должна повторяться.
Американские раскольники придумали музыку, наоборот состоящую из одних повторений: маниакальной изменчивости была противопоставлена маниакальная же статика. В «In C» Терри Райли все ноты имеют одинаковую длительность – одну восьмую, это значит, что музыка довольно проворно, но монотонно пульсирует. Каждый исполнитель должен самостоятельно двигаться по списку из 53 несложных ритмических пассажей, так называемых модулей. Каждый из них обыгрывает одну и ту же ноту «до». Исполнитель, повторяя каждый пассаж сколько угодно раз, постепенно продвигается к концу списка. Получается огромный холм дергающегося звука, который меняется незаметным для глаза образом.
Эффект это классическое произведение минимализма имело потрясающий, для многих – в том числе и для вполне серьёзных (то есть ориентированных на сериализм) композиторов – это было настоящим освобождением. Элегантный замысел, казалось, не предполагал никакой предшествующей традиции, при этом результат был монументален и гипнотичен. Такая музыка напоминала и тогдашнюю абстрактную живопись с её культом огромных масс сырого цвета и заботой о плоской поверхности картины, а также огромные земляные валы и ямы лэндарта. Опус «In C» был в каком-то смысле художественно-хулиганским жестом – в духе хепенингов Fluxus.
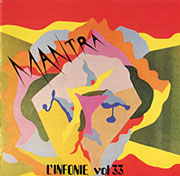
Оркестр состоял из самых разных музыкантов, игравших в обычной жизни как классическую музыку, так и рок, джаз, и всё прочее: ударные и гитары соседствовали со скрипками, виолончелями и духовыми.
Профессионалы играли вместе с дилетантами. У оркестра был руководитель – Вальтер Будро, он пишет, что не был в состоянии контролировать, кто что на самом деле играет. Кроме того, музыканты поняли партитуру не совсем правильно и играли триоли там, где их в виду не имелось. Сочинение исполнили не до конца – музыканты играли до тех пор пока не кончилась плёнка, на неё влезло почти полчаса звука. Кроме того, запись в монреальском подвале была очень далека от идеальной, многих инструментов не слышно, зато слышно много шумов и искажений.
Возможно благодаря всему этому, то есть из-за некоторой неслаженности и анархичности, а может быть из-за ударных и гитар, музыка записалась просто фантастическая, какое-то сумасшедшее психоделическое кантри.
Этот эффект получился сам собой, музыканты никакого психофолка в виду конечно не имели. Сегодня же эта музыка воспринимается как остромодная.
Она переиздана на CD с архивными записями Райли «Reed Streams».
Надо сказать, что разнообразных исполнений «In C» существует масса – и с китайскими инструментами, и с нежной ритм-машиной.
В 60х годах Терри Райли записал много музыки, он играл на саксофоне и органе, при помощи дилей-эффекта сдвигая друг относительно друга слои одних и тех же звуков и безжалостно этим эффектом злоупотребляя.
Однообразные саксофонные пассажи напоминают то ли фри джазовые, то ли этнические. Некоторые перформансы Терри Райли длились по шесть часов. Их фрагменты были в первый раз опубликованы только во второй половине 90х, сам Терри Райли их и выпустил.
Один из компакт-дисков архивной серии сопровождает стихотворение композитора – точнее, набор слов. Упоминаются волны, экстаз, снова волны, безумие, мир, будда, козерог, Аллах, космические циклы, бог всяческих циклов... хочется про себя сказать «ой!» и вежливо отвести взгляд.
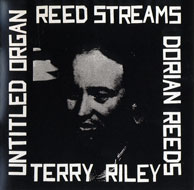

«Reed Streams»
Poppy Nogood «All Night Flight» v.1
Записи Райли 60х – это, очевидно, самый настоящий ранний психоделический андеграунд. Чем он «лучше» всякой прочей психоделики, скажем, Pink Floyd или Tangerine Dream или Ash Ra Temple? Тем, что невкусный он, неклассный, незаводной. Он безжалостно и тупо ходит по одному и тому же кругу, в нём нет скрытой поп-музыки, нет куплетов и проигрышей, в нём нет дизайна, он похож на молитвы безумного ума. На чёрно-белых фотографиях погружённый в чёрное Терри Райли – крайне сосредоточен, его огромный лысый лоб похож на каменное яйцо.
Терри Райли отказался от обычного для западноевропейской музыки распределения ролей: композитор сочиняет музыку и записывает действия исполнителя с помощью нот, а исполнители, глядя в ноты, повторяют требуемые от них действия.
Идея состояла в том, что композитор и исполнитель сливаются в одном человеке-импровизаторе, который комбинирует элементарные аудио-кирпичи, сдвигает их относительно друг друга, меняет местами, и тем самым запускает огромный циклический процесс, который, кажется идёт сам собой.
Это громкая и ясная музыка, намёков и неясных чувств в ней нет, никаких задумчивых туманных пейзажей она не рисует, псевдооркестрого пафоса в ней тоже нет... хотя пафоса, скорее всего, подразумевается много, не иначе как «мощь космической пустоты». Бас у органных импровизаций проекта Poppy Nogood тяжёл и очень хорош.
Это не музыка для расслабления и медитации, маньяк не знает расслабления.
Не хочется расхваливать или даже рекомендовать музыку «Reed Streams», она действует на нервы не менее чем традиционная музыка Раджастана.
Минимализм был интегральным проектом, завершавшим всю предыдущую музыку и начинавшем новый отсчёт, новое отношение – и не к музыке вовсе, но к человеку и его месту в мире. Как всякому контркультурному проекту ему был свойственен глобализм поставленной окончательной точки.
А потом с Терри Райли что-то случилось.
А может случилось не с ним, а с западной цивилизацией в целом. Минимализм стал концепцией, конструктивной схемой. Конечно, о мировоззрении по прежнему говорили немало, но ничего опасного в виду не имелось. Тянущийся и петляющий на одном месте саунд благодаря усилиям Tangerine Dream стал мэйнстримом. Интерес к буддизму и индийской мистике тоже перестал быть причудой асоциальных одиночек. Райли оказался в непосредственной близости от Нью Эйджа.
В 70х композитор изучал индийское пение.
Он охотно объяснял, чем именно его восхищает индийская музыка. Отношение тонов в ней предполагают грандиозную палитру красок, утраченную в западной музыке. В используемых в индийской традиционной музыке интервалах очень много выразительных средств, новых чувств и новых красок. Только чтобы научиться всё это слышать, нужно много лет учиться. Но если проникнуться системой индийской музыки, научиться слышать оттенки тонов и крошечные, но такие важные сдвиги, лёгкие затуманивания и прояснения тонов, то по сравнению с этим пиршеством красок западная музыка покажется серой.
В этом объяснении Райли обращает на себя внимание постоянное упоминание цвета, который начинает восприниматься тем, у кого ухо настроено на систему интервалов индийской музыки.
То есть такое красочное слышание привыкания и переориентации внимания становится само собой разумеющимся делом. Понятно, что акцент тут ставится не на композиции, не на форме музыкального произведения, но на красоте того или иного интервала – то есть расстояния между высотой отдельных нот. А форма целого – одна и та же: многослойный поток, идущий по кругу.
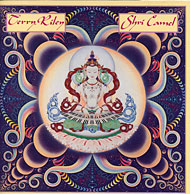
«Shri Camel»
«Shri Camel» вышел в 1980-м году. Это первое произведение Райли, написанное и исполненное им после того, как он несколько лет изучал искусство индийской раги.
«Shri Camel» – это 4 длинные пьесы, каждая исполнена живьём на электрооргане Ямаха. Орган несколько переделан – в соответствии с так называемым чистым строем, оттого аккорды, да и музыка в целом звучат ярче и гармоничнее. Кроме того орган снабжён дилеем. Если бы небо было уклеено обоями, то они наверное выглядели бы примерно так.
Мне кажется, что эта музыка – предел мечтаний Tangerine Dream, Клауса Шульце, Китаро и им подобных.
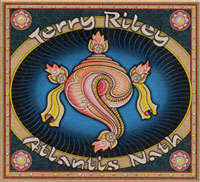
«Atlantis Nath»
Этот опус ещё вполне свежий.
Это сюита из как бы песен. Райли поёт и играет на фортепиано, присутствуют и звуки записанные на улице, и кое-какая электроника.
Всё слегка экзотическое и крайне умиротворённое. Похоже на саундтрек к популярному фильму о путешествии в глубину веков.
По мнению очевидцев, в 60-х годах многие исходили из того, что мир стоит на пороге радикальных изменений, революция – как минимум, духовная революция – вот-вот произойдёт, она уже происходит.
Но в 70-х так явственно переживавшийся порог отодвинулся далеко-далеко. Терри Райли – как и многие другие композиторы-минималисты, и не только минималисты – перестал быть бунтарём, визионером и пророком.
Какой уж бунтарь без бунта?
Райли превратился в композитора, сочиняющего музыку в определённом стиле, в деятеля культуры, работающего внутри определённой системы закономерностей и условностей.
И стал возможен вопрос: насколько богаты возможности минимализма как метода? Насколько оправданы его претензии на духовность или на глубинное психологическое воздействие? Как выглядит минимализм в сравнении с другими музыками? Насколько он вообще интересен? Почему мы должны именно его слушать? Принять к сведению? ОК, надо всё знать, но ведь в мире так много других компакт-дисков, не правда ли?
декабрь 2005