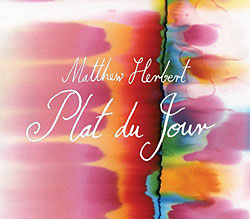
Matthew Herbert
«Plat Du Jour» ( Accidental, 2005)
Все треки альбома «Дежурное блюдо» изготовлены исключительно из звуков, которыми сопровождается процесс изготовления и потребления пищи.
Музыка элегантна и изящна, она слегка свингует и подпрыгивает, она ритмична, в ней угадываются ненавязчивые мелодические ходы.
В сопроводительном буклете, раскрашенном в цвета пищевых красителей – малиновый, оранжевый, зелёный, перечислены исходные компоненты каждого трека. В одном случае это писк 30 тысяч цыплят в инкубаторе, звук убиваемого цыплёнка, звуки разбиваемой скорлупы...
В другом треке использован хруст 3255 пережёвываемых яблок. «Водяной» трек собран из звуков, связанных с водой, это и звуки воды и ритм, который выстучали на пластиковых бутылках из-под минеральной воды. Его скорость – 182 удара в минуту, потому что 182 тысячи литров воды нужно для производства одной тонны стали.
Мэтью Херберт записал полемический альбом. В комментариях к своей музыке он ставит много вопросов, смысл которых сводится к тому, как же бессовестна, расточительна и вредоносна наша цивилизация. Мэтью Херберт призывает нас задуматься о пищевой индустрии в эпоху глобализации и повысить уровень своей сознательности и критичности, не верить тому очковтирательству, которое составляет сущность современного западного супермаркета. А обсуждение музыкальных достоинств и недостатков его детища Мэтью Херберта и не очень интересует.
Потому я решил обсудить не музыку, а невкусную и нездоровую пищу.
По немецкому телевидению часто показывают длинные документальные фильмы о том, как функционирует современная промышленность – скорее всего, те или иные фирмы рассматривают эти фильмы как рекламу, зрелище в любом случае познавательное. Среди фильмов о том, как делают деревянные стулья и какой путь проделывает сталь от металлолома до готовых к употреблению ложек, показывают много фильмов и о пищевой индустрии – о том, как делают сыр или шоколад, торты или сосиски, минеральную воду или свежий фруктовый сок.
При этом в глаза бросается несколько вещей.
Во-первых, это высокотехнологическое производство, задействованы огромные автоматические линии, многие операции – как долго перемешивать компоненты, до какой температуры нагревать или охлаждать смесь - контролируют автоматы. Даже маленькое семейное предприятие в баварской деревне, которое производит какой-то био-лимонад, использует устрашающего вида агрегаты – соковыжималки и огромные цистерны, технология защищена авторским правом, в цистернах живут непростые бактерии, этой хайтек.
Судя по упаковке, французский сыр с замечательной синей плесенью изготавливают в монастырях на лоне природы - так вот этот сыр на самом деле вызревает в никелированных чанах размером с бассейн.
Интерьеры цехов крупных пищевых комбинатов похожи на интерьеры химических заводов – кафельный пол, высоченный потолок, уходящие вдаль металлические ящики, сквозь которые ползёт конвейер.
Все сотрудники одеты в белые халаты и шапочки, часто они носят маски.
Вторая характерная черта современной пищевой индустрии – наличие далёких, чаще всего - международных связей. Продукты перерабатываются не там, где они растут. Очень многие продукты совершают длительные путешествия с места на место, а потом долго хранятся в концентрированном или замороженном виде.
Говорят, что рынок (то есть пользователь в супермаркете) требует, чтобы один и тот же продукт в одном и том же виде лежал на полках в течение всего года. Меняется лишь цена яблок сорта Брэбёрн в немецких супермаркетах, их внешний вид, размер, цвет, консистенция, остаются неизменными. Яблоки привозят из Австралии или в лучшем случае из Франции.
Как минимум в течение года хранится концентрат персикового сока, из разбавления которого потом получается свежий фруктовый сок.
Концентрация, сгущение характерны не только для сока, но и для пищевой промышленности в целом. Производство и хранение стягиваются в высокотехнологические узлы, между фабриками разъезжают огромные рефрижераторы, сок, который хранят и смешивают с водой в Баварии, продают по всей Германии и за её пределами.
Это третья характерная черта современной пищевой индустрии – её безальтернативность. Фермер, который выращивает яблоки под Бонном, не имеет возможности продавать их в Бонне. Он привязан к фирме, которая эти яблоки у него покупает. То же самое с фермером, который в Италии выращивает персики. Каждый из них привязан к щупальцу длинной технологической цепочки. Обойти эту цепочку и докричаться до потребителя практически невозможно, единственное исключение – если покупатель сядет в автомобиль, проедет сто километров и купит у фермера десять килограммов свежих яблок. Это возможно сделать лишь в момент урожая, хранить яблоки фермер не может, яблоки быстро портятся. Кроме того, яблоками наша пища не ограничивается, а где брать всё остальное?
Потому, скорее всего, яблоки из боннской области путешествуют за тысячу километров, там их превращают в пульпу, её опять везут куда-то за тысячу километров, потом хранят в течении года-двух, после чего возможно в виде сока эти яблоки попадут обратно в Бонн. А в городе в это время едят яблоки из Австралии – которые тоже долго хранились в холодильниках – они жёсткие и невкусные, их сорвали ещё зелёными, чтобы они не испортились по дороге.
В Кёльне продают зелёные стручки бобов и гороха, которые выросли в Кении.
И эта ситуация – типична, это норма, это для всех продуктов так.
И это никакая не тайна.
Описанная мной ситуация глобализации, укрупнения и индустриализации пищевой промышленности имеет крайне неприятные последствия. Далёкие перевозки продуктов и долгое их хранение приводят к тому, что в продуктах распространяются бактерии. Из за высокой концентрации производства разного рода ошибки в технологическом процессе или же заражения затрагивают сразу большое количество людей на огромной территории.
Пищевая промышленность часто повторяет один аргумент: на современном пищевом заводе, где действуют и следят за чистотой профессионалы, куда чище, чем на домашней кухне, домашняя кухня – это настоящий зоопарк бактерий. Регулярно проводятся исследования микрофлоры на домашних кухнях, результат их неизменен – на кухонном столе во много раз больше всяческой заразы, чем на крышке унитаза.
Скорее всего, так оно и есть. Однако это не меняет того обстоятельства, что пищевая промышленность в массовом порядке применяет искусственные добавки, которые собственно и определяют вид и вкус продукта.
Чтобы продукты долгое время не портились, в них добавляют стабилизаторы и консерванты.
Для достижения желаемых консистенций, то есть чтобы, скажем, молочные продукты были похожи на желе, применяются специальные препараты - эмульгаторы.
Для того, чтобы вкус был стабильным и стандартным, применяются ароматизаторы. Красятся продукты тоже.
Современный человек потребляет огромные количества этих искусственных добавок, около 20 кг в год. Надо сказать, что наш пищеварительный тракт не приспособлен для переработки этой химии. Её пожирают хитрые бактерии, которые были обнаружены не только в животе у людей, но и в подземных городских каналах со сточной водой. Иными словами, у нас у кишечнике химически-биологическая ситуация очень похожа на ситуацию в городской канализации. Бактерии, питающиеся химическими добавками, крайне прожорливы и активны, они медленно разрушают оболочку стенок кишечника, что является причиной разнообразных заболеваний.
Человека очень легко обмануть.
Раньше, когда продукты питания были натуральными, по внешнему виду и вкусу можно было легко определить, что молоко, мясо или овощи испортились.
Сегодня на вкус и внешний вид уже ничего не возможно определить. То, что мы считаем вкусом продуктов, покупаемых в супермаркете – это искусственный вкус. Если йогурт имеет вкус клубники – это не значит, что в нём плавала клубника, если растворимый суп имеет вкус куриного – это вовсе не значит, что он имеет какое-то отношение к курице.
Если вкус слабоват, его можно подтолкнуть, так сказать, сделать его погромче, для того тоже есть специальная химия. Но в принципе, можно исходить из того, что вкусы не усиливаются, но создаются, синтезируются.
Характерный вкус корочки белого хлеба – результат применения химического соединения, которое называется 2-ацетил-1-пирролин (я перевожу по буквам немецкие хим.названия), это буквально микроскопическая добавка, миллионные доли грамма ароматизатора на килограмм хлеба. Или вот ментентиол: миллиардная доля его грамма на 20 литров воды создаёт у нас во рту ощущение свежего грейпфрутового сока.
Лимонная кислота, которая применяется очень во многих продуктах, на самом деле - результат жизнедеятельности специально выращиваемых колоний бацилл и плесневых грибков. Именно поэтому такие ароматизаторы называют «натуральными» или добавляют словечко «био».
Имитируют всё, даже вкус копчёного мяса – естественно, чтобы модифицировать или создавать вкус мясных консервов, ветчины, сосисок и тому подобного.
Вкус настоящего цыплёнка зависит от шести сотен химических соединений, мир химических имитаторов устроен проще, искусственный вкус цыплёнка имитирует смесь из 12 препаратов.
То же самое – и с пивом, с чаем, с кофе, вином, со всеми сладостями, с консервированными овощами, с кисломолочными продуктами, с сыром и даже с макаронами. Про суп из консервной банки, сосиски, колбасу и пиццу даже думать не хочется – страшный сон.
Размах синтезирования просто устрашающий, можно считать что натурально приготовленных продуктов питания просто не осталось, в любом случае, всё, что продаётся в супермаркетах, всё, что упаковано и как-то обработано – всё это во многом синтетическая пища, результат стандартизации и семплирования.
Очень похоже на музыку.
Нет, нет никакого спасу.
Фастфуд–забегаловки – это всем известное зло. Но прогресс уже дошёл до такого состояния, что большое количество так называемых ресторанов – на самом деле, это предприятия по разогреву готовых блюд, которые привозят с завода. Тут волшебное слово «конвиньенс» («удобство»). Технология отлажена и прекрасно функционирует, чтобы вести ресторан, не нужен шеф-повар. Выглядеть ресторан может очень традиционно – с бутылками старого вина, с засохшим луком и чесноком, которые свисают со стен, со старыми фотографиями и моделями парусников... всё это шоу.
За кулисами, на кухне – совсем другая история. Существуют даже полезные советы для владельцев таких ресторанов, там указано, сколько времени готовится то или иное блюдо: следует выдержать паузу, чтобы создать у посетителя реалистическое ощущение якобы реально идущего кухонного процесса.
Верить нельзя не только супермаркету или булочной – верить нельзя и овощному магазину. Хозяин овощного магазина, как правило, покупает овощи не у крестьянина, а на оптовом складе – у него те же самые безвкусные помидоры и яблоки, что и в супермаркете.
Существует и огромная сфера обмана – многие продукты продаются как биологически чистые, но такими на самом деле не являются.
Есть внутри пищевой индустрии отдельные внутренние индустрии, вселяющие ужас, скажем, производство и переработка цыплят или отлов рыбы в море.
Что происходит с мясом, если оно портится на заводе? Его уничтожают? Нет, далеко не всегда. Прямо сию секунду (24 ноября 2005) в Германии разразился очередной пищевой скандал (вроде бы уже пятый в этом году): испортившаяся и заражённая микроорганизмами огромная партия говядины с одного мясокомбината была распродана фирмам-переработчицам, которые изготовляют фарш, сосиски, котлеты, фастфуд и т.п. во всей северной Германии.
Защитники прав потребителей и даже государственные контролёры часто беспомощны, что на самом деле происходит в пищевой промышленности, никто не знает. Говорят о том, что раз мясо портится непрерывно, значит, должны существовать налаженные пути его сбыта. Это относится и к другим продуктам. Но всё это - сфера производственной тайны, как и технология изготовления того или иного продукта.
Очень похоже на то, что просветительские фильмы, наводнившие немецкое телевидение, должны успокоить потребителя - дескать, у нас всё в порядке, чистые никелированные поверхности, постоянный самоконтроль и сотрудники в халатах.
На что не кинь взгляд, волосы встают дыбом. Скот накачивают гормонами – как культуристов, или вот генетически изменённые продукты – якобы более устойчивые против вредителей, содержащие больше полезных веществ и т.п. Проталкивают их концерны из США. В Латинской Америке семена подкидывают на поля или выращивают новую пшеницу на одном поле, а она сама собой распостраняется на огромной территории просто ветром. Потом ставят тесты, обнаруживают запатентованные гены и предъявляют фермеру счёт – новая пшеница защищена авторским правом. Иными словами, фермеров обманом вынуждают переходить на новые продукты. Потом оказывается, что генетически изменённая пшеница второй раз не родится, у неё выключен соответствующий ген, семенной фонд надо каждый год покупать у мамы – американской фирмы и платить за авторское право. Сейчас генетически изменённые продукты лоббисты проталкивают в Европу. О том, как такие продукты действуют на человека в долгосрочной перспективе, никто, конечно, не знает. Университетская биологическая наука часто финансируется пищевыми концернами, негативные результаты не дают публиковать. Кажется, что борятся с этой волной «новой еды» одиночки, которых прогрессивные коллеги считают сумасшедшими. Этих сумасшедших профессоров тоже иногда показывают по телевидению.
Какие последствия у всей этой ситуации?
Далеко не только такие, что еда из супермаркета, к которой буквально приговорён современный горожанин, невкусна. Последствий изменившегося питания очень много – это и эпидемии, и массовые отравления, заболевания желудка, астма, всевозможные аллергии и прежде всего – ожирение. Многие продукты вырабатывают зависимость. Очевидный пример – фруктоза, фруктовый сахар. Фруктоза применяется в тысячах разнообразных продуктов. Фруктоза чересчур сладка для нашего организма. У многих людей именно фруктоза вырабатывает зависимость от сладкого.
Человек, привыкший к синтетическому вкусу, естественный вкус считает не очень-то и интересным.
Побочное следствие глобализации пищевой промышленности – исчезновение многих видов растений, овощей, злаков. В Германии есть энтузиасты, выращивающие много сортов, скажем, картофеля – и пытающиеся спасти их от исчезновения (то, что даже био-картофель из супермаркета невкусен, особенно подчёркивать, наверное, не надо). Сегодня культивируется только то, что востребовано промышленностью.
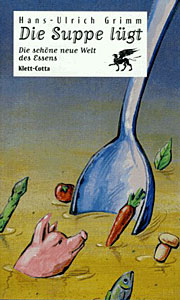
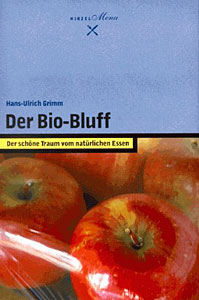
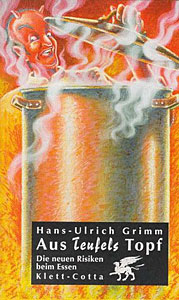
Кое-какие сведения на так захватившую меня тему я почерпнул из трёх книг Ханса-Ульриха Гримма «Суп лжёт», «Био-блеф» и «Из чёртовой кастрюли». Такого сорта книг существует много, похоже, нагнетанием пищевой паранойи занимается процветающий сегмент книжного рынка.
Книги эти устроены одинаково: поток из газетных и журнальных цитат, рассказы о реальных случаях и скандалах, горы деталей, цифр и фактов.
Мне показалось любопытным, что Ханс-Ульрих Гримм в упор не видит, что его книги очень похожи на совершенно справедливо поносимые им консервы и индустриально приготовленные блюда. Эти книги изготовлены на потоке. Аналитики, игры ума, движения мысли, каких-то красот языка или стиля, авторского своеобразия в них нет, даже книгами их называть странно, текст неостановимо наращивает однородную массу, вкусовые ощущения определяются дешёвыми мелодраматическими эффектами.
Иными словами, эти книги устрашают: они сами собой иллюстрируют ту ситуацию глобальной индустриализации, о частном случае которой рассказывают.
Собственно, Мэтью Херберт не очень озабочен тем, чтобы покупатели западного супермаркета питались вкусно и питательно. Его интересует не удовлетворение химически стимулируемых потребностей жителей стран первого мира, но оборотная сторона индустрии супермаркета, то, как она реально функционирует.
Мэтью Херберт, не может ответить на вопрос, который задают ему все: ну, хорошо, трек из звуков убиваемых цыплят или из звуков зёрен, заражённых пестицидами - это любопытная идея, но ведь на музыке никак не сказывается происхождение её компонентов. Музыку-то можно было вполне собрать из других звуков, в музыке никакого упрёка человеконенавистнической пищевой промышленности и нет.
Мэтью Херберт грустно соглашается, но радуется, что музыкальные журналы затрагивают эту проблему.
Мне же видится такого сорта ответ, что между современной музыкой и современной пищей существуют очевидные параллели. Мы по звукам музыки не можем сказать, из чего она сделана, нам это часто совсем и не так важно, нам слышатся естественные звуки естественных инструментов и подхватывающий нас энергичный поток, нам слышится традиция, хотя на самом деле всё это – чистая синтетика на месте прервавшейся традиции. Так же обстоит дело и с продуктами питания.
октябрь 2005