|
Мы с Р., сидючи в одной офисной комнате, часто спорили – в том числе о смерти и посмертном существовании. Он был православным. Точнее, он им стал – после юношеского увлечения буддизмом, богемно-художнической молодости и пятилетнего бурлескно-авантюрного алкоголизма. Непосредственным толчком к воцерковлению – так до конца и не доведенному, но отчаянно провозглашаемому – стала гибель его пятилетней дочери. Врачи долго не могли поставить диагноз, махали рукой, а потом она умерла от лейкемии – как говорится, в одночасье. К моменту нашего знакомства Р. совсем не пил спиртного, не признавал мобильных телефонов, твердо верил в шестидневное творение мира и читал Иоанна Лествичника. Смерть виделась ему событием, всё расставляющим по своим местам и умеряющим человеческий пыл. Попасть в рай, по его словам, - это как возвратиться домой. Про ад он не говорил ничего, полагая, что человеческому познанию поставлен законный предел. Эдвард Мунк "Смерть в комнате больной (сестры)"
О чем говорить во время затянувшегося ожидания возле морга, неизвестно – чуть ли не любая фраза кажется пошлой и неуместной. Но сказать что-нибудь тянет: тишина угнетает, а цепляться не за что – только за слова. Застоявшаяся мысль кое-как подвигается в двух направлениях: констатация бессмысленности случившейся смерти и попытка отыскать в ней какой-то невидимый, неповерхностный смысл. Тут подъезжает машина с самыми близкими, и беседы сворачиваются. Мать, в шубе и норковой шапке, выходя, сотрясается в слезах, ее успокаивают. Жена на удивление спокойна, взгляд глубокий и одухотворенный. Перед дверьми морга приходится еще какое-то время подождать. Наконец выходит вежливый униформированный сотрудник: он приглашает попрощаться с телом покойного, в особенности тех, кто не едет на продолжение церемонии. Я не еду. Заходим в небольшую комнатку. Запах муторный, сладковатый. Р. лежит в гробу на столе, по диагонали комнаты. Кто-то со всхлипом произносит «Как живой!», и эта ложь бьет по ушам. Лицо припудрено, черты его заострились, на груди лежит несколько гвоздик, из-под белой накидки торчат новенькие сапоги-казаки: нелепый и трогательный маскарад. Мне очевидно, что это именно мертвое тело, что никакой отлетевшей души поблизости – или в некотором отдалении – не витает. Умерев, человек умирает целиком – и тайна в том, что никакой тайны нет: всё перед нами. Заглянув в это бледное лицо с закрытыми глазами, поверить в жизнь за гробом уже невозможно. Смерть смотрится спокойной и естественной; она не кричит о себе, не нагнетает ужас и не бьется в истерике. Она ясна и прозрачна, как белый свет. Я вспоминаю, что многих из тех – знакомых и незнакомых, кого я когда-то видел и о ком только слышал, уже нет. Их нет нигде, и надгробные памятники, эпитафии, церковные панихиды кажутся жалким демагогическим жестом – заполнением освободившегося после смерти пустого места, риторическим провозглашением недискретности существования. Обратно я еду в метро, и люди вокруг видятся мне будущими мертвецами. Живые – маленький островок на теле земли, со всех сторон окруженный океаном умерших. Шаг в сторону – и ты уже там. Любое сердце может остановиться в любой момент, например, во сне, и все объяснения этого обстоятельства покажутся фальшивыми. Подгонкой решения под ответ, неудачным изобретением смысла.
* * *
Я живу в Москве поблизости от станции «Измайловской»: платформа расположена на воздухе, с одной стороны от нее – город, с другой – Измайловский парк. По выходным каждый вечер, и зимой, и летом, независимо от погоды, рядом со входом в парк собирается толпище стариков. Те, кому за 70, устраивают здесь свои вечеринки: гремит гармонь, льются старые песни. Ближе к полуночи им приходит пора разбредаться. Старики поднимаются на платформу, но ноги по инерции еще просятся в пляс – гармонист продолжает играть, а песни звучат уже не слаженным хором, а редкими звуковыми проплешинами. Поднимающаяся в метро молодежь недоуменно, со смешками наблюдает за действом: беззубые старухи, задорно прижимающиеся к седым старичкам, выглядят действительно жалко и потешно. Почему это зрелище так завораживает? Потому что старости подобает строгость и взвешенность, а старушечьи пляски – это такой данс-макабр?.. Мне определенно видится, что возле метро «Измайловская» молодым москвичам выдается взглянуть на свое отражение в зеркале будущего. Пройдет лет пятьдесят, не облюбуют ли себе место на той же полянке те из них, что выживут в посттехнологическую эру – чтобы тряхнуть стариной: попеть под гитару Цоя или Летова, станцевать под хиты начала XXI века?..
|
|
|
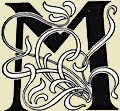 артовским субботним вечером мне на мобильный позвонила коллега по работе. Она еле связывала слова от волнения и дала свой домашний номер. Я перезвонил. Собственно, она сказала два слова: «Р. умер». Р. – наш дизайнер, не так давно ему исполнилось 36 лет. За две недели до этого звонка он уволился по собственному желанию. Что могло с ним случиться за это время – попал под машину, встрял в уличные разборки, кирпич, наконец, на голову упал? Он выглядел вполне здоровым, ничем серьезным вроде бы не болел. Переждав паузу, я интересуюсь подробностями. Р. умер во сне: утром, когда жена собиралась на работу, он еще спал. Вечером, по ее возвращении, он лежал в той же позе – но уже похолодевший. Вскрытие не дало внятных результатов: просто остановилось сердце.
артовским субботним вечером мне на мобильный позвонила коллега по работе. Она еле связывала слова от волнения и дала свой домашний номер. Я перезвонил. Собственно, она сказала два слова: «Р. умер». Р. – наш дизайнер, не так давно ему исполнилось 36 лет. За две недели до этого звонка он уволился по собственному желанию. Что могло с ним случиться за это время – попал под машину, встрял в уличные разборки, кирпич, наконец, на голову упал? Он выглядел вполне здоровым, ничем серьезным вроде бы не болел. Переждав паузу, я интересуюсь подробностями. Р. умер во сне: утром, когда жена собиралась на работу, он еще спал. Вечером, по ее возвращении, он лежал в той же позе – но уже похолодевший. Вскрытие не дало внятных результатов: просто остановилось сердце.
