Вокруг Кёльна во второй половине 90-х возник настоящий хайп, журналисты не сомневались, что в здешнем андеграунде происходят странные и интересные вещи, которых больше нигде нет.
Под интересными вещами понимались следующие явления – во-первых, минимал техно, которое продвигал лейбл и магазин Kompakt, во-вторых, электро, связанное с клубом Liquid Sky и продюсером по имени Dr. Walker, туда же относился магазин Groove Attack, заведующий городским брейкбитом, в-третьих - слегка бесформенное явление, имевшее отношение к магазину А-Мusik. Самым известным проектом, так или иначе связанным с А-Музик, был Mouse On Mars.
Три магазина и клуб называли «бермудским треугольником» - все эти замечательные места находились в пяти минутах ходьбы друг от друга.
Присутствовал, условно говоря, и «четвёртый фактор»: в Кёльне всё ещё якобы ощущался дух старой электронной музыки – имелись в виду бывшие участники легендарной группы Can, в первую очередь басист Хольгер Шукай, а также то обстоятельство, что в 50-х и 60-х именно в Кёльне Карлхайнц Штокхаузен со своими сотрудниками занимался самой передовой в мире электронной музыкой.
Самые роскошные виды на будущее связывали в первую очередь с минимал техно Kompakt-а и родственным ему минимал электро-попом Йорга Бургера – концерн EMI возродил лейбл Harvest для пропаганды этой музыки.
Что же за пять-семь лет изменилось?
Минимал техно пошло в гору, лейбл и магазин Kompakt – это всемирно известный брэнд, Вольфганг Фогт (Mike Ink, Gas) признаётся, что слух о «саунде Кёльна», «Sound Of Cologne» был удачным маркетинговым ходом с его стороны, по другому было англичан и не одолеть.
Сегодня разнообразного техно в Кёльне записываются и выпускаются горы, но сегодня эта музыка кажется очень уж специальной, в любом случае, не в ящик с надписью «техно» лезут, разыскивая новую и интересную музыку. Да и делают её с таким же успехом и далеко от Кёльна.
Клуб Liquid Sky, проект Air Liquid, дуэт Шукай/Walker и тусовка вокруг фестиваля Elektrobunker Cologne давно уже внимания к себе не привлекают. Самой знаменитой акцией лейбла Groove Attack стали два сборника современного французского шансона «Le Pop». Это совсем не брейкбит и не инструментальный хип-хоп.
С духом старой электронной традиции тоже получилось не хорошо: студию радиостанции WDR, в которой Штокхаузен творил и побеждал, тихо ликвидировали, не сохранили даже в качестве музея. Бывшие участники группы Can показали что они - ветераны, не очень понимающие, что вокруг них происходит, и что они этим сознанием горды.
На волне слухов о музыкальной особости Кёльна в город съехалось огромное количество музыкантов, здесь действует масса лейблов, но о том, что Кёльн знаменит в музыкальном отношении, сегодня вспоминают лишь когда речь заходит о... не скажу, прямо уж экспериментальной, но не лишённой странностей музыке. Я решил осторожнее обходиться со словом «поп-музыка», потому окончательная формула местной специфики могла бы выглядеть так: «изобретательная музыка с человеческим лицом». Если и есть в ней что-то типично кёльнское, так это нежелание вписываться в какой-то заранее заданный формат, следовать за какой-то тенденцией. Наоборот – есть желание делать не совсем то, что делают все остальные. Очевидным образом, эта музыка связана с магазином, лейблом и дистрибьютором А-Musik, вокруг которого собрались такие кёльнские же лейблы как Sonig, Karaoke Kalk, Tomlab. До недавних пор сюда же относился, ныне пребывающий в Берлине, лейбл Staubgold.
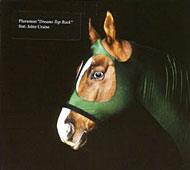
Pluramon «Dreams Top Rock» (Karaoke Kalk, 2003)
Pluramon – это проект Маркуса Шмиклера. Узнать, почему вдруг в его музыке запела дама, и почему появилась стена гитар, напоминающая группу My Bloody Valentine, невозможно. Зная Маркуса, осмелюсь предположить, что всякий ответ, который может придти в голову в качестве объяснения, окажется неверным. У композитора были свои причины.
В любом случае, на слегка высокомерный пост-рок, сделанный электронными средствами, в духе первых двух альбомов проекта Pluramon, новый совсем не похож. Наверное, потому он и вышел на не лейбле Mille Plateaux, а на Karaoke Kalk.
Кто такая эта дама, узнать несложно, это Джулия Круз, она пела на саундтреке фильма Дэвида Линча «Twin Peaks». У неё свистящий и тянущийся голос, похожий на пелену или туман. Голос искажён, он сплющен и растянут, возможно, к нему что-то ещё подмешано. Что именно поёт Джулия, понять невозможно, это какой-то скрипучий атмосферный стон, один из оттенков стены нойза. Дело тут явно не в голосе.
Странным образом – и не в гитарах дело, шквал нойза довольно статичен, это не настоящие гитары. А во многих песнях их просто и нет.
Ритм своеобразный – но это не рок-ритм, и уж явно не живой барабанщик сидел за ударной установкой. Да и ритм – хотя и искусственный, но совсем не сложный, дело явно и не в ритме.
В чём тогда? За что не возьмись – дело не в том, и не в этом, всё – не настоящее.
Дело, похоже, в вязком и инертном потоке – которого тоже нет на переднем плане, но он безошибочно чувствуется.
Именно в потоке этой жидкой резины происходят события, они далеко друг от друга отстоят, они практически незаметны. Беспощадный эмбиент-инопланетянин вселился в психоделический гитарный рок, натянул его на себя как тонкую кожу и медленно-медленно извивается.
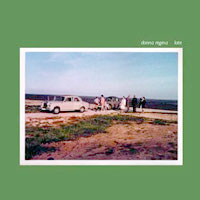
Donna Regina «Late» (Karaoke Kalk, 2003)
Дуэт Donna Regina хранит верность однажды найденному саунду.
Музыку дуэта описывают и как «глубоко спящую» (или просто «заспанную»), и как «глубоководную», в любом случае – как меланхоличную и расслабленную.
Мне кажется, что слово «неотягощённая» неплохо её характеризует.
По здравом же размышлении, я пришёл к выводу, что она, с одной стороны –лирична и открыта, но одновременно – непроницаема и нежива. Она в высшей степени безучастна.
Голос Регины Янсен больше не утопает в стене звука как раньше, он находится перед остальной музыкой, которой досталась роль стильного сопровождения, вообще новый альбом стал ближе не столько к обычной поп-музыке, сколько к состоянию, когда сделай ещё маленький шаг – и магия навсегда исчезнет.
Раньше Гюнтер Янсен – гитарист дуэта Donna Regina – в живую исполнял все инструментальные партии, в том числе и гитарные, так ли это сегодня – я не уверен. Как бы то ни было, музыка звучит исключительно аналогово, то есть мягко, басовито, плавно, но формально это – дальний родственник минимал техно.
На новом альбоме есть и вещи в уже известном стиле – тяжёлый подводный бас, лёгкий бит, однако, самые интересные песни содержат намёк на какое-то странноватое кантри – дело, конечно, в гитаре, играющий в бесконечном цикле несколько характерных кантри-звуков.
В нескольких песнях от общего гула отклеился не только голос певицы, сам гул расслоился, отдельные его слои приобрели характер, стали слышны партии отдельных инструментов – и это любопытный момент: момент, когда стена звука превращается в полифонию.
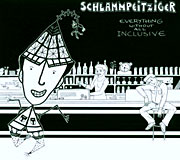
Schlammpeitziger «Everything without all inclusive» (Sonig, 2003)
Совсем другую историю – и совсем другими средствами – рассказывает нам Шламмпайцигер.
Schlammpeitziger знаменит звуками касио-синтезаторов, неуважением к высокому стандарту студийной звукозаписи, а также пристрастием к перекошенно-попрыгучим ритмам и бесконечно длинными названиями треков.
Сразу бросается в глаза, что его новый альбом звучит чище, прозрачней и звонче, чем предшествующие. И разумеется, ты тут же убеждаешься, что прав был Schlammpeitziger, когда говорил, что дело совсем не в качестве звукозаписи.
Многослойность этой музыки подобна многослойности клоуна. Он дёргается и прыгает, он изобретателен в своих ужимках, не остановим поток несуразных предметов, которые он вытаскивает из своих карманов – но тосклив и мрачен на самом деле этот клоун, ему совсем нехорошо. Он прямой и честный человек, он честно и изобретательно дует в свои свистульки и стучит в свои барабанчики, а мы слышим, что его душа попала в тёмную яму.
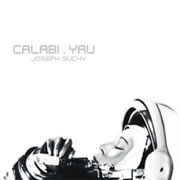
Joseph Suchy «Calabi.Yau» (Staubgold, 2003)
Наконец-то осмысленное название альбома. Калаби – англичанин, Яу – китаец, они физики-теоретики, работают над всеобщей теорией всего.
Хотя Йозеф Сухи – гитарист, на его альбоме гитарные звуки хитро сочетаются с совсем негитарными, впрочем, сказать, что они сочетаются – ничего не сказать.
Существует метафора «стена звука», про альбом Йозефа Сухи я бы сказал, что у него, конечно, не стена, а, скорее, поле звука и даже иногда кустарник звука.
Это не песни, не треки, в них нет упругого баса, нет грува, нет бита. Я даже не уверен, что к этим акустическим уплотнениям применимо слово «психоделический улёт». Никакими путешествиями в страну наркотического экстаза в хиппи-духи композиции Йозефа Сухи не являются. Он сам подчёркивает, что его музыка – это не трип, не рассказ, не поездка, но, скорее, состояние. Впрочем, и без объяснений прекрасно слышно, что в музыке нет событий, ничего из начавшегося не заканчивается, она всё время поддерживается в состоянии недоговорённости, собственно, она и не начинает ничего рассказывать. Первый же произнесённый звук, взятый аккорд, промелькнувший звон начинает дробиться, повторяться, раскрывать скрытые в себе возможности – и продолжать при этом оставаться первым звуком так и не начавшейся речи.
Некоторые пьесы устроены более регулярно – мы слышим в них повторяющиеся элементы, другие - совсем иррациональны, некоторые плотны, другие разреженны, в некоторых много эхо, в других доминируют тянущиеся звуки и наплывы, некоторые выстроены вокруг гитарной партии. Удивительна первая – самая длинная - композиция.
На редкость удачный альбом.
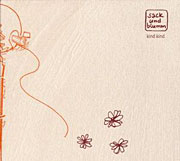
Sack & Blum «Kind Kind» (Staubgold, 2003)
Зак – то есть Харальд Циглер - живёт в Кёльне, Блум – то есть Франк Шюлтге – в Берлине.
Зак и Блум – мультиинструменталисты. Блум, скорее, гитарист, Зак, скорее, трубач и исполнитель, использующий детские инструменты и игрушки.
Зак – устрашающе грамотный музыкант, он работает корректором партитур для симфонического оркестра, но при этом душа его принадлежит хоумрекордингу – то есть записи музыки в домашних условиях, игрушечным инструментам и не лишённым инфантильности мелодиям и ритмам.
Собственно, именно это и составляет своеобразие музыки дуэта Sack & Blum и не даёт ей скатываться в бесхарактерное болото самодельной электроники. Эта музыка минималистична, но она не извлечена из компьютера, отдельные звуки беззащитны и не очень серьёзны, но они собраны вместе людьми, которые понимают, как функционирует симфонический оркестр.
Я послушал четырёхлетней давности альбом дуэта Sack & Blum, вышедший на лейбле Tomlab, и решил, что новая музыка стала куда менее настырной и менее интенсивной, и куда более пустой, затянутой и безысходной.

Aelters «Ardchilds’com.undo» (Sonig, 2003)
Музыка, хотя и записанная во французском городе Лилле, но выпущенная на кёльнском лейбле Sonig.
Аелтерс – бывший участник группы Dat Politics - говорит, что он французский крестьянин, который не живёт в промышленном городе Лилле, а потерялся в нём.
И музыка у него какая-то потерявшаяся. Желание делать характерное французское диско-хаус-буханье у Аелтерса, конечно, есть, но есть у него и желание делать много чего прочего. Его музыка – результат аналогового процесса переклейки магнитофонной плёнки. Творческий процесс состоит в записи всяческих звуков и в склеивании из них длинных косичек. Цели этот процесс не имеет, потому музыка не столько развивается, сколько мутирует, обрастая причудливыми деталями и наростами и рассыпаясь в колючую крошку.
В каком-то смысле Аелтерс похож на Шламмпайцигера, в его музыке тоже чувствуется второе дно, только если Шламмпайцигер – это невесёлый клоун, то Аелтерс – невесёлый диско-танцор.

Vert «Small Pieces Loosely Joined» (Sonig, 2003)
Живущий в Кёльне англичанин Эдем Батлер, продвигающий свой проект Vert, выпустил новый альбом на кёльнском же лейбле Sonig. Альбом называется «Бессвязно соединённые друг с другом маленькие музыкальные пьесы». Я поёжился, увидев, что многие рецензии на этот альбом уверяет читателей: «Это не электроника!» То есть это не противно взять в руки.
Взять в руки, действительно, альбом Vert-а не противно, но электроники – то есть кривообразного бита и разнообразных странных сопровождающих его звуков - на нём хватает. Vert иногда играет на пианино и аккордеоне в довольно минималистическом стиле, эти пассажи немало способствуют разнообразию происходящего. Но дело, по-моему, спасают не столько акустические инструменты, сколько контраст между последовательными состояниями пейзажа. Музыка часто проваливается в огромные дыры, из которых она выбирается с сильно изменившимся лицом. На концертах Vert-а эти провалы между вспышками активности длинны и интригующи.
Есть такие документальные фильмы, в которых по небу очень быстро-быстро несутся облака. А если представить себе, что так же быстро могут строиться и разрушаться дома? Вот построился из палочек и панелей дом, и вот он опять развалился и превратился в пустырь, по пустырю поелозили какие-то тени, и вот опять поползли вверх стены.
Если от электроники когда-нибудь останется лишь воспоминание, то очень хочется, чтобы это было воспоминание о музыке проекта Vert.
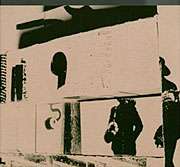
Lithops «Scrypt» (Sonig, 2003)
Lithops – это соло-проект Яна Вернера, участника дуэтов Mouse On Mars и Microstoria.
Это непростой альбом, это навороченный альбом, это тяжёлый альбом. Сам Ян полагает, что его альбом будет открыт, услышан и оценён много позже. Лишь с течением времени он будет принят к сведению.
Мне тоже так кажется. В любом случае, сегодня он воспринимается замысловатой и тяжеловесной кучей, впрочем при многократном прослушивание ощущение кромешного кошмара несколько рассасывается. Музыка пучится волнами синтетического баса, в этих волнах утонули не пережёванные остатки непонятных объектов – от вполне безвредного хруста, звона колокольчиков и стука палкой по кастрюле вплоть до хеви-металлических запилов и барабанного грохота. При некотором усилии можно распознать как бы подразумеваемый бит, а точнее – почти ритмическую судорогу. Это не нойз, не коллаж, не drill-n-bass, это какая-то новая тяжесть и новая непроходимость.
Несколько упрощая дело, можно было бы сказать, что мы имеем дело с хардкором Микростории – здесь тот же самый задумчивый, вязкий и иррациональный плыв, что и в Микростории, но сделан он из громких, раздутых и взбудораженных звуков.
Мне Ян как-то говорил, что сегодня такое страшное время, что должен возникнуть новый индастриал – только он будет звучать совсем не так как старый индастриал. Я не думаю, что Ян Вернер озаботился оживлением старой торговой марки, скорее, речь идёт о том, что в период крушения иллюзий уместно отказаться от игрушек, или, по крайней мере, сменить игрушки.

World Standart & Wechsel Garland «The Isle» (Blues Interactions, 2003)
Выпущенный в Японии совместный альбом японца World Standart (Сохиро Сузуки) и немца Wechsel Garland (Йорг Фоллерт). Идея совместной работы оказалась нереализуемой, Йорг хотел работать совместно, Сохиро - быстро (потому название «Остров» - имеется в виду остров встречи представителей двух разделённых океаном миров – оказалось благим пожеланием, если не явным обманом).
Йорг захватил инициативу в свои руки, половина треков – его музыка, остальное – его обработки и дополнения безынициативных последовательностей гитарных аккордов, присланных японским коллегой. Японцы, однако, на этапе мастеринга перехватили инициативу и сильно откорректировали звук – сделали его звонким и гладко-дигитальным.
В результате более чем года усилий получилась мелодичная инструментальная музыка, сыгранная на акустических инструментах. Особенно любопытны барабаны в треках Йорга – это картонные коробки и отдельные тарелки, настоящее картонное громыхалово и бухание в медное корыто. Между инструментами много воздуха, ощущения компактно играющего оркестра не возникает. К сожалению, после мастеринга эффект самодельности сильно ослаб.
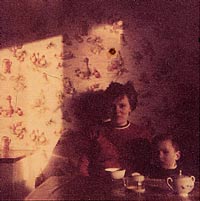
Hajsch «1992» (Sonig, 2003)
Sonig переиздал два давних альбома проекта Hajsch (произносится «Хайш») – за этим словом скрывается кёльнский музыкант Ханс-Юрген Шунк.
Свои альбомы он выпустил в 1992 году в виде виниловых грампластинок, должен сказать, что мне эти две грампластинки кажутся чуть ли не самой большой акустической ценностью, вышедшей в 90-х годах.
Собственно, гудящей и тихо-тихо шуршащей минималистической музыки выпущено – хотя и малыми тиражами – но очень много. Чуда в ней нет, наверное, прежде всего потому, что её изготовители часто относятся к изготовлению такой музыки как к концептуальному жесту, как к программному заявлению: Вот, я делаю музыку, которую почти не слышно, и в которой почти ничего не происходит. Я вслушиваюсь в Ничто.
А Хаш вслушивается не в нойз-семпл, крутящийся на одном месте, он вслушивается во что-то, в чём есть тайна, в чём есть магия, в чём есть пространство и, прежде всего, смысл.
Я не знаю, почему я это решил, есть в ней смысл или нет. Я это и не решал. Когда я в первый раз услышал эти грампластинки, я сказал «ой». Я имел в виду, что-то вроде: «Вот можно же сделать музыку для человеческих ушей и душ!»
И это самой «ой» мне хочется сказать каждый раз, когда я опять завожу эти грампластинки... должен признаться, завожу редко, чтобы не привыкнуть к эффекту, ими производимому.
Можно было бы сказать, что эти длинные композиции – это огромный растянутый коллаж, знаете, на компьютере можно растянуть маленькую квадратную картинку в длинную ленту.. время замедляется, но в непредсказуемых местах происходят быстрые звуки...
Музыка состоит не только из звуков естественного происхождения, но и из звуков музыкальных инструментов, но в данном случае всё это неважно, она явно не из чего не состоит, как захватившая нас сцена в театре не состоит из актёров. В лучшем случае, можно сказать, что «в воздухе повисает нечто».
Компакт-диск звучит, на мой взгляд, несколько жёстче и суше, чем виниловый оригинал, не столь пусто, не столь отчаянно потусторонне. Тот же самый звук журчащей воды на виниле окружен огромным чёрным пространством – компакт-диск показывает его куда более сухо и трезво.

Это как бы регги-даб: много баса, много эхо, много проникновенного вокала. Но, вслушавшись внимательнее, понимаешь, что это далеко не регги – ритм не просто не похож на регги, он странно неровен. Очень много гипертрофированного эхо – но это не регги-эхо. Много нервного нойза – но это совсем не clicks’n’cuts. Вставки духовых вызывают в памяти то cool jazz, то free jazz.
Вообще, музыка напоминает книгу, которая попала под проливной дождь, отчего её страницы покоробились и склеились друг с другом. Читать её и рассматривать картинки, конечно, можно, но не очень понятно, как относится к ней в целом? Пытаться догадаться, как бы она должна была звучать в нескленном и неиспачканном состоянии? Это вполне возможный метод слушания. Тем более что многие элементы музыки Фридмана напоминают известные регги и соул-пассажи, когда музыка всей своей массой трогается с места, и стартует мотор грува. Только у Фридмана этот мотор не стартует, а много раз повторяется момент ожидаемого старта. И ты вдруг понимаешь, что твоя осведомлённость в том, что должно последовать дальше, мешает тебе услышать, что музыка уже давно идёт полным ходом: эти циклы фальшстартов и несбывающихся обещаний грува обладают собственным прихотливым грувом.
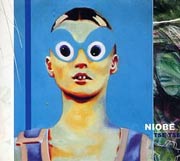
Не надо бояться, никакого джаза нет, лишь голос певицы иногда – или, лучше сказать, один из голосов певицы – напоминает Билли Холидей, а электронный нойз напоминает звуки бигбэнда, несущиеся с нещадно плывущей архивной радиозаписи. То же самое и с латиноамериканским духом... это именно что дух, ощущение, иногда сгущающееся из воздуха.
Альбом «Tse Tse» неожиданен, неуловим и, как я уже сказал, – долгожданно странен. И при этом – не высокомерен, не антигуманен. Он располагает к себе, он человечен, он свингует, он заманивает в себя.

Thomas Brinkmann «Tanks A Lot» (max.ernst, 2003)
В кёльнском джазовом кафе Wundertüte во время карнавала проходил анти-карнавальный вечер – дело в том, что далеко не все кёльнцы способны выносить вид разнаряженных, раскрашенных и пьяных сограждан, стучащих в барабаны и орущих весёлые песни.
Антикарнавальный вечер состоял в том, что несколько ребят заводили музыку на нескольких проигрывателях одновременно, активно двигая рычажками вверх вниз. Хотя все присутствующие - и публика, и диджеи были вполне осведомлены, где находится передний край современной музыки, на наши уши обрушивался коллаж из свободного джаза, прогрессивного рока, синти-попа, радиопьес, латиноамериканской эстрады... но ни в коем случае не электронной музыки последнего времени. Все исходные компоненты потока были изготовлены задолго до 90-х, тем не менее, музыка звучала вполне свежо, неожиданно и современно.
Я пил кофе и мусолил в голове свою любимую тяжёлую думу: «В какую сторону идёт прогресс?»
Почему ребята из самой продвинутой музыкальной тусовки – а вечер устраивал магазин A-Musik – получают истинное удовольствие от джазовых соло Коулмена Хокинса, песен Captain Beefheart-а и тупого стука с затёртых синглов с ранним немецким и вполне дилетантским синти-попом образца 1980-го года?
Вдруг я обнаружил рядом с собой техно-продюсера Томаса Бринкмана и, разумеется, сразу проорал ему в ухо: как обстоят дела с твоей музыкой?
Он безо всякого энтузиазма проорал мне обратно: тебя это и в самом деле интересует?
Я очень удивился, и покивал головой.
Томас рассказал, что британская фирма Mute так и не смогла выпустить его сборник – процесс легализации всех использованных сэмплов, в отличие от терпения сотрудников лейбла, явно не желал кончаться.
Потому Томас сам напечатал тираж компакт-диска, назвал его «Tanks A Lot» – вместо «большое спасибо» получилось «много танков», это намёк на британский милитаризм - и вложил его в конверт своей очередной недолгоиграющей грампластинки «Тина».
Он заявил, что продавать компакт-диск не хочет, он доставал красные диски в прозрачных пакетиках из кармана и раздавал знакомым, мимо нас протискивавшимся.
Томас Бринкман не очень хотел говорить о своей музыке, он вовсе не был уверен в правоте дела своей жизни, своей техно-миссии. Он сказал: я уже взрослый дядя, и сколько можно делать музыку для подростков?
Ну, хотя бы из-за денег? – осторожно поинтересовался я.
Томас высказался в том духе, что все известные техно-продюсеры заработали достаточно денег, чтобы эти деньги начали сами собой расти уже и безо всякой музыки – скажем, путём вложения в ценные бумаги или недвижимость. Кто же ничего не заработал, то уже тоже не заработает. Так что деньги – не фактор продолжения делания техно.
ОК, а творческая самореализация?
Да, хочется чего-то нового, иного... – прокричал Томас, - но что это могло бы быть, я никак не соображу. Есть ощущение, что кончился определённый период, и внутри меня, и музыке, и в окружающем мире... но что именно наступило и что именно надо делать сейчас, я не знаю. Надо двигаться... и хочется двигаться, это вовсе не пессимизм... скорее, лёгкая потеря ориентации в пространстве. Танки, бомбёжки, Афганистан, Чечня, Ирак... а мы делаем музыку для подростков. Я не знаю, способен ли я быть неповерхностным, но поверхностным быть уже точно сил нет.
Ты хочешь делать серьёзную музыку, забыв про секвенсор?
Не в том дело – техно/нетехно, секвенсор/несеквенсор, экспериментальная/неэкспериментальная, а в том... что имеет смысл сегодня? - был мне ответ.
Я так понял, что его неизданный лейблом Mute сборник – это красная точка в конце техно-эпохи.
Я не уверен, что к техно Томаса Бринкмана надо добавлять обязательное в 90-х слово «минимал». Это бас-барабан, это синтетический саунд, это редкие сбивки, это комбинаторная танцевальная музыка в довольно быстром темпе.
Она лишена мелодий, но не лишена изысканных аранжировок.
Все треки появлялись на виниловых грампластинках, и далеко не все – на компакт-дисках. Представлены все проекты Томаса Бринкмана, от широко известного Soul Center до ставшего настоящей редкостью Corvette.
Я думаю, что эта музыка не потеряет смысл, даже если и не останется желающих под неё танцевать. Чего ей не хватает, так это не интереса танцующих масс, а дистанции в 10-15 лет, с которой мы могли бы на неё смотреть.
декабрь 2003