|
|
НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА
М У З П Р О С В Е Т |
|
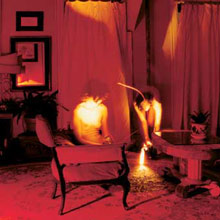
Kammerflimmer Kollektief «Cicadae» (Staubgold, 2003) Ансамбль www.kammerflimmerkollektief.de базируется в городе Карлсруэ, лейбл www.staubgold.com – в Берлине. Название альбома переводится с английского как «Цикады». Название проекта истолковать можно, но ничего существенного мы при этом не узнаем. Компакт-диск был с энтузиазмом встречен прессой, речь шла не только о том, что мы имеем дело со значительным явлением в сфере психоделического джаза, но даже о том, что наконец-то психоделический джаз зазвучал так, как он всегда и хотел звучать. Музыка плотна, насыщена, но одновременно – легка и раскованна. Она, парадоксальным образом, одновременно пуста и навороченна. В ней много чего – и притом в неожиданных местах - происходит, альбом в целом производит впечатление гигантского, прямо-таки неподъёмного предприятия.


Мои собеседники – шеф предприятия Томас Вебер – он заведует электронными приспособлениями и компьютерными технологиями, и контрабасист Йоханнес Фриш. Ваш последний альбом потребовал больших усилий, больших затрат при продюсировании... Больше двух лет работы... Почему, собственно?
Томас захохотал: А в чём?
«В том, чтобы записать хорошую музыку... Я попытался выяснить, почему Kammerflimmer Kollektief ориентирован на джаз. При этом Томас Вебер – не джазовый музыкант. Томас сказал, что он сидит за компьютером, а вот басист Йоханнес – настоящий джазовый музыкант, пусть он и отвечает на вопрос, джаз ли это?
Йоханнес Фриш: Зачем нужны все эти компьютерные сложности? Почему бы не играть просто джаз?
«Если ты захочешь описать эту музыку, то ты согласишься что это – синтетическая музыка, – обстоятельно объясняет мне Йоханнес. – Группа Kammerflimmer Kollektief возникла позже проекта Kammerflimmer Kollektief. Проект начался с того, что Томас в одиночестве делал музыку на компьютере. Он семплировал пассажи с джазовых компакт-дисков. После того, как вышел дебютный альбом («Mäander», 1999), появилась идея собрать живую группу, которая будет эту музыку играть. Те же самые композиции зазвучали совершенно по-другому – так вышел второй компакт-диск («Incommunicado», 2000), концертный. Два процесса, два саунда стояли на большом расстоянии друг от друга – компьютерная музыка, которая хотя и была собрана из вполне аналоговых звуков, была однозначно компьютерной, и c другой стороны - её концертная реализация, которая тяготела к свободному джазу. С течением времени работа Томаса в студии и наша игра как музыкантов срослись друг с другом. Это объясняет трудозатратность процесса возникновения музыки. Некоторые пьесы сыграны в живую. Некоторые сыграны нами, а потом Томас их совершенно по-иному склеил. Иногда мы играли поверх по-новому склеенной музыки... никакой утверждённой процедуры действий не было... в любом случае импульсы и идеи исходили и от нас, и от Томаса. Понять, как вы работаете над вашей музыкой, можно, - вытаскиваю я из рукава страшный вопрос, - но по-моему в ходе вашего развития возникло и большое противоречие. В начале 70-х музыку, подобную вашей, – синтетическую, пульсирующую, с большой долей свободного джаза – записывали живьём, пришли в студию и сыграли. Она не только звучала как живая, она и делалась в живую. Сегодня же сравнимый результат – а критики в своих рецензиях постоянно сравнивают ваш альбом с альбомами эпохи электронного джаза и фьюжн – требует двух лет работы шести человек, плюс огромный компьютер. Почему?
«Мы вовсе не работали два года подряд, день и ночь! – ответили мне хором Томас и Йоханнес, - Мы должны ещё и на жизнь зарабатывать. Конечно, было бы интересно посмотреть, что бы у нас получилось, работай мы без пауз два года... Кроме того, многие записанные пассажи требовали долгого раздумья – как к ним относиться, что с ними делать, как они меняют общую картину – это требовало времени. Да и невозможно два года подряд выдавать новую продукцию – нужно набираться новых впечатлений, постоянно что-то слушать, читать, просто переводить дух.
Моя попытка осторожно выяснить, как мои собеседники относятся к такому понятию как NuJazz, с треском провалилась.
Каждый музыкальный журналист рад, - признаюсь я, - когда он что-то в музыке способен опознать. Начиная от звука отдельных инструментов, как скажем, гитары или саксофона, вплоть до характеристик саунда или стиля. В музыке Kammerflimmer Kollektief рецензенты усматривают очень много составных частей, спектр очень широк.
«Да, конечно, - с энтузиазмом кивает Томас – музыка ни в коем случае не должна производить впечатления, что она собрана из фрагментов, каждый из которых имеет самостоятельный смысл.
Я хотел подробностей, позиций, стратегий и концепций. Но всего этого как будто и не было: музыканты импровизировали, записывали, слушали, Томас клеил, они советовались друг с другом, потом опять импровизировали, слушали чужую музыку, Томасу хотелось попробовать то, что они услышали на каком-то альбоме, они пробовали, записывали... сказка про белого бычка. Меня этот рассказ, слышанной мной уже не знаю сколько раз, вывел из себя.
Томас и Йоханнес задумались. Томас сказал, что выражение «космический минимализм» ему, определённо, нравится. Соображение о плотной упаковке музсобытий действительности тоже соответствует. Томас признался, что он вполне сознательно старался уплотнить музыку.

Концерт Kammerflimmer Kollektief, состоявшийся в кёльнском зале Gebäude 9, меня удивил. На сцене присутствовало шесть человек. Кроме сидевшего за столом Томаса, играли барабанщик, саксофонист и контрабасист, одна девушка извлекала звон и шорох из скрипки, ещё одна – согнувшись на полу, играла на органе, похожем на аккордеон, в него надо было постоянно подавать воздух. Удивило меня то, что несмотря на взрывы свободного джаза, музыка в целом на джаз совсем не походила, не походила она и на беззастенчивый космический улёт. Нет, она вполне определённо напоминала компьютерную музыку, сыгранную в живую. Ясно были слышны зацикленные петли звука, музыка шла вперёд маленькими шажками, я не мог отделаться от ощущения, что музыканты связаны по рукам и ногам, что они не имеют возможности развернуться. Тонкая пригнанность друг к другу тембров инструментов – скажем, звона, издаваемого скрипкой, и шипения саксофона – тоже воскрешала в памяти подгонку саунда двух дорожек на компьютере. Сильного и свободного движения, которое присуще многим пассажам альбома, на концерте вовсе не было слышно. С другой стороны, было очень приятно видеть музыкантов, играющих в живую, слушающих друг друга, переглядывающихся с друг другом. Было приятно, что компьютера на сцене не было и в помине. Всё остальное - дело живое и наживное, решил я, мы всё таки находимся всё ещё в состоянии переходного периода.
октябрь 2003
|