
Mauricio Kagel
«Die Stuecke Der Windrose» (Winter & Winter, 2004)
Вышедший на мюнхенском лейбле Winter & Winter компакт-диск с тремя эпизодами из цикла «Роза ветров» композитора Маурисио Кагеля.
Цикл, работа над которым продолжалась восемь лет, завершен в 1994 году.
Весь цикл содержит восемь пьес, каждая названа как сторона света, пять из них уже были изданы 10 лет назад, три оставшиеся - «Юго-запад», «Север» и «Запад» - звучат на компакт-диске впервые.
Играет амстердамский Шёнберг-ансамбль. Дирижёр - Райнберт де Леув.
Кагель выбрал любопытный состав инструментов – а именно инструменты салонного оркестра, музыку, однако, салонной назвать ни в коем случае нельзя.
В сопроводительном тексте к «Юго-западу» композитор приглашает нас представить себе, что мы путешествуем от западного побережья Мексики через весь Тихий океан к Новой Зеландии. «Это загадочные в музыкальном смысле районы, они меня особенно волнуют, потому что я их совсем не знаю», – пишет Кагель.
Это сочинение – размышление об относительности сторон света.
Что такое север?
Кагель пишет, что он родился в южном полушарии, и у него те или иные стороны света связаны с определёнными событиями, желаниями и схематическими представлениями, которые ориентированы прямо противоположно чувственному миру европейцев.
«Например, юг – это не там, где жарко, а там, где холодно: Антарктида. А север – совсем не холоден, там царят безжалостное солнце, жёстко очерченные тени, удушливая влажность, пустынные пейзажи, засуха.
Наши представления склонны упрощать ситуацию, они складываются из быстро улетучивающихся – или наоборот надолго запоминающихся – туристических впечатлений, чтения книг, из опыта, из наших собственных склонностей и антипатий».
Маурисио Кагель пишет, что движущим мотивом его работы была попытка почувствовать очевидные и в то же время загадочные соответствия, которые акустически соединяют континенты и культуры.
«Но на самом дальнем севере – как и на самом южном юге – нам уже не с чем сравнивать. Там, где царит голая пустыня, в голову приходит не музыка, а белая бесконечность, постоянный ветер и почти полное отсутствие человека».
Кагель говорит, что он и небольшой холод не выносит, потому даже в мыслях попутешествовать вдоль Полярного круга было для него невозможно.
Оттого он предпринял другое путешествие.
40 лет назад он на каком-то семинаре читал доклад, посвящённый сибирским мифам о возникновении шаманизма и роли волшебного бубна.
Композитор запомнил поразившее его описание целительного действия музыки при магических ритуалах, однако то, откуда он взял материал для своего доклада - название книги и имя автора - он за сорок лет забыл.
Оттого его северное путешествие стало выглядеть так: Маурисио Кагель попробовал вспомнить, как он себе во время своего доклада представлял эту лечебную шаманскую музыку, её ни разу в жизни не слышав и ориентируясь только на описание.
В музыке «Севера» слышны звуки севера: кожа животных, камни, ветер, огонь, вода, скрип снега, треск льда: звукоподражание, как иронично замечает композитор, лучше чем в жизни, но всё-таки самое главное тут - состояние транса.
Когда работа над композицией «Север» была почти закончена, Кагель случайно увидел в книжном магазине ту самую книгу, изданную в 1951-м году, которая вдохновила его на доклад, а потом и на музыку. Это было сочинение Мирче Элиаде «Шаманизм и архаичная техника экстаза».
По поводу композиции «Запад» Маурисио Кагель пишет, что в этом случае представлять себе нужно не одну сторону света, а две противоположных. Темой «Запада» является взаимообмен двух культур, в этом процессе сначала происходит африканизация музыки Северной Америки, а потом – куда в более слабой форме - американизация африканской музыки.
Иллюстрируя мысль о том, что культура никогда не бывает чистой, Кагель описывает сценарий телефильма, который он хотел снять в 1970-м году, но телестудия испугалась такой постановки вопроса. Называется сценарий «Белое на чёрном».
Музыкально-антропологическая экспедиция из Европы приезжает в Африку. Цель – исследование и запись музыки племени, ведущем изолированный образ жизни.
Белые учёные, прибыв на место, одарили местных жителей побрякушками. После долгих переговоров согласована процедура работы: сначала старшие, а потом всё более молодые члены племени будут петь всё, что они знают.
Однако, через несколько недель местные жители стали безо всякой видимой причины умирать. Колдун после долгого разбирательства выяснил, что умирают те, кто спел белым пришельцам все песни, которые знал.
Белым с большим трудом удалось кое-как заглушить конфликт, и работа продолжилась. Но поведение темнокожих изменилось: стало казаться, что у них значительно улучшилась память. Они поют куда больше и дольше, их музыка становится богаче и сложнее. Впрочем, когда учёные слышат уже им знакомую мелодию, они требуют немедленно прекратить песню и спеть что-то им неизвестное.
Чтобы выйти из сложной ситуации, африканцы начинают вставлять в свою музыку элементы западной музыки: в своей палатке звукотехник крутит вечерами грампластинки, их звуки несутся над ночной деревней.
Медленно, но верно фольклорная традиция меняется, под поверхностью всё ещё по африканскому звучащих песен скрывается европейская музыка.
Через несколько недель довольные уловом учёные покидают деревню, а в качестве подарка оставляют местным жителям проигрыватель и гору грампластинок.
Через много лет музыкально-антропологическая экспедиция из Африки приезжает в Баварию....»
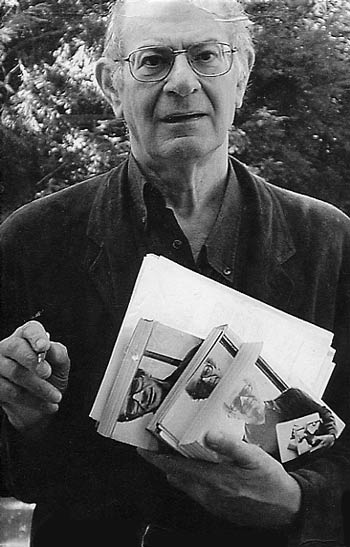
Когда меня спросили, не хочу ли я взять интервью у Маурисио Кагеля, я надолго остолбенел. Взяв в себя в руки, я позвонил классику. Он крайне радушно ко мне отнёсся и порекомендовал завести в моей передачи недавно вышедший компакт-диск с его произведениями для хора. Оркестром и хором дирижирует сам композитор.

KAGEL by Mauricio Kagel
«Rrrrrrrrr…», «Anagrama», «Mitternachtstueck»
На этом компакт-диске я нашёл одно из самых первых сочинений Маурисио Кагеля – «Анаграма», оно написано в 1958 году.
Хор говорит на все голоса, издаёт всевозможные звуки, сквозь рваную ткань речи прорастает рваная ткань инструментального сопровождения.
Раньше такого сорта музыка казалась мне радикально абсурдистской, агрессивной, воинственно авангардистской, провоцирующей. Сегодня же она мне кажется изящной, прозрачной и прихотливой.
Какая же она на самом деле?
«То, что вы говорите – характерно для сегодняшнего дня. Я не думаю, что авангардизм ассоциируется только с интенсивностью и громкостью звука. Но существует авангардизм, который выражается в идеях, а вовсе не в агрессии против публики. Если авангардизм использует иные средства воздействия, он вынужден уходить глубже.
Сегодня – время, когда громкость звука играет очень большую роль. И в поп-музыке это так.
«Анаграма» совершила революцию в музыке, необычным было отношение к речи, к слову, к тому, как сочетаются голоса людей и звуки инструментов.
Я никогда не хотел эпатировать буржуазию. Для меня авангард был революцией в мышлении, то есть возможностью пойти глубже в решении проблем».
О каких проблемах идёт речь?
«В музыке есть очень важный аспект синтаксиса: как музыка становится языком?
Есть конечно и проблема стиля, но стиль – это не то, что меня интересует. Мне интересно то, как музыка артикулирована, как она организована во времени.
Как мельчайшие элементы связаны друг с другом и с формой всего музыкального произведения в целом – эти проблемы заполнили всю мою жизнь.
И эти проблемы решаются уже в «Анаграме»: столкновение и взаимопроникновение речи и музыки в поисках их связывающего синтаксиса. От этого и сама музыка приобретает свойства языка, начинает говорить».
Когда читаешь историю возникновения «Анаграмы», то создаётся впечатление, что Вы применяли набор формальных методов – комбинируются разные способы звукоизвлечения, включая шепот и крик, текст разбивается на отдельные звуки, всё перемешивается... и кажется, что все эти действия не предполагают никакой определённой акустической картины, раздробленная и перекошенная картина получается сама собой, автоматически.
Так ли это?
«Нет, не так. То что Вы называете автоматикой, я назвал бы когерентностью, то есть связностью. Это значит, что когда у Вас есть композиция музыкальных тонов, которая обладает для вас некоторой связностью, это не означает, что эта композиция сама собой движется вперёд, нет, её продвижение диктуется тем методом, который применяет композитор.
Интересно, что чем жёстче и строже тот метод, который применяет композитор, тем больше чувствительности ему требуется, чтобы выразить себя.
Это означает, что метод и выразительность переплетаются друг с другом. Применение метода вовсе не означает, что музыка становится холодной или нечеловеческой.
Это очень важный момент. Задумаемся, какие области духа затрагивает музыка Баха! При этом известно что эта музыка сочинена невероятно строго. То есть это не победа чувствительности над методом, но победа чувствительности посредством метода».
На Вашем компакт-диске вместе с «Анаграмой» есть и сочинение «Rrrrrrr...», которое звучит куда более ровно, традиционно и плавно. Почему вы перешли к такого рода сочинениям? Был какой-то переломный пункт?
«Посмотрите – в истории музыки, в истории культуры, в истории литературы мы привыкли различать в деятельности того или иного художника прошлого периоды – первый, второй... Почему вы не можете позволить и мне иметь творческие периоды?
Если бы я всю свою жизнь сочинял вещи в духе «Анаграмы», у меня бы не было никакой насущной причины сочинять музыку дальше.
Разумеется, есть композиторы и живописцы, которые всё время пишут одно и то же, но ведь это же скучно.
Мне было что сказать и помимо «Анаграмы», и было куда пойти. Но «Анаграма» была всё-таки ключевой вещью – некоторые серьёзные вещи должны быть сделаны вовремя, не слишком рано и не слишком поздно.
И в моём случае так оно и было.
Композиция «Ррррррр...» – совсем другой случай. В ней тоже есть своя большая порция динамита... но другого.
Меня всегда интересовало вот какое обстоятельство: уверенность человека в том, что он якобы услышал в музыке. Композиция «Ррррр...» – это обращение к отсутствующему воспоминанию слушателя. Слушатель постоянно находится в ситуации узнавания, он не сомневается, что это он слышал – но он этого никогда не слышал.
Это парфюм истории музыки, я сочиняю с помощью этого запаха. Это программирование воспоминания.
Это потому важно, что у нас всех в музыке есть любимые места. Скажем, я люблю только вот это место в симфонии Бетховена, а вовсе не всю симфонию целиком... И когда подходит моё любимое место, тогда я слушаю на 120 процентов, а всё остальное слушаю всего на 70.
И это обстоятельство меня завораживает».
Меня уже давно мучит вот такой вопрос: почему в середине 70х возникла ситуация конца авангарда? Что произошло? Композиторы разочаровались в авангарде? Надежды не оправдались? Почему развитие западноевропейской музыки пошло в другую сторону?
«Спрашиваете Вы Кагеля или спрашиваете композитора? От этого зависит ответ.
Нет, разочарования в авангарде не было. Но проект современной музыки нельзя путать с каким-то одним специфическим музыкальным языком или каким-то особенным звуком.
Разумеется, в этом состояла ошибка сериальной музыки и додекафонистов.
Я протестовал против этого с самого начала – мне это казалось проявлением евроцентризма. Композиторы, которые по западноевропейским масштабам не были авангардистами – в России, Польше, Венгрии..., вовсе и не должны были следовать западным путём, им предстояло пройти свой собственный путь, чтобы писать современную глубокую музыку. Не признавать этого было огромной ошибкой.
Это я говорил как Кагель.
А теперь я скажу как композитор.
Очевидно, я не был единственным протестующим, тем, кто сказал, что так не пойдёт. Возможно, я был одним из самых известных. Но я не верю в памфлеты. Я не верю в манифесты. Каждый раз, когда появляется манифест, его тут же предают. Это и в политике так, и в искусстве. Как только в искусстве появляется манифест, на следующий день развитие идёт совсем в другую сторону.
И потому следует постоянно раздумывать над историей музыки: почему что-то делается, и почему нечто другое, наоборот, не делается?
Есть композиторы прошлого, которые остались современными, даже если они звучат обычным, общепринятым образом. Скажем, вчера я слушал исполнение пьесы Вивальди, которую я до сих пор не знал... и это совершенно невероятно, что оркестр начинает с мелодии, которая развивается как чакона, и на примерно 16-м такте вступает хор, а партия оркестра совершенно не меняется, никак не реагирует на хор, как будто его и нет. Оркестр просто повторяет свою чакону, конечно, согласуя её гармонически с хором. Конечно, музыка звучит не как современная, но её концепция, замысел – современны. Это модерн».
Интересует ли вас какая-то иная музыка? Слушаете ли Вы ещё какую-то музыку?
«Очень много. Очень много. Я не могу без музыки жить. Я думаю, что лучшее доказательство того, что музыка оказывает лечебное воздействие, состоит в том, что нам всем она нужна. Даже якобы здоровым нужна музыка.
И мне самому постоянно нужно много музыки. Самой разной – этнической, экзотической... нет, поп-музыку я не слушаю, у меня нет к ней привязанности, но вот вся музыка, начиная с 1600 года – она мне необходима. Старая музыка? Грегорианский хорал нравится мне – но в небольших количествах, два часа грегорианского хорала я не вынесу. А два часа, скажем, Шуберта я вполне могу вынести.
Я не только сам в музыке нуждаюсь, но я очень надеюсь, что и остальные нуждаются в музыке, что люди понимают, как благотворно может быть её действие».
Существует такое клише: музыкант должен искать, экспериментировать. Но что должен искать музыкант, с чем он должен экспериментировать? Есть ли в музыке вообще что-то, что имеет смысл искать?
«По поводу поисков хорошо сказал Пабло Пикассо. Знаете ли Вы его афоризм «Художник не тот, кто ищет, а тот, кто находит»?
Я бы сравнил деятельность композитора с деятельностью спелеолога, исследователя пещер.
Эти пещеры – внутри нас. Композитор, предполагающий серьёзное к себе отношение, должен попробовать опуститься глубоко в свои собственные пещеры.
Это и есть поиск.
Делать то, что считается отвечающим духу сегодняшнего дня, или то, что сегодня звучит интересно, - это совсем не важно. Это не имеет никакого значения. Если вы будете искать достаточно глубоко, то вы найдёте то, что совершенно скрыто под слоями пыли, что не заметно.
Этот поиск, разумеется, должен иметь место.
Конечно, у каждого это процесс проходит по разному. Мне необходимы очень большой покой и очень большая концентрация.
Если же вы хотите спросить меня, как я сочиняю музыку, я не могу ничего сказать. Я этого не знаю. Я могу за десять минут сочинить несколько секунд звука, но за десять минут я не смогу объяснить, что именно я сделал и почему».
январь 2005