
В марте 2004 в Кёльне произведения американского композитора-минималиста Мортона Фелдмана играл британский пианист Джон Тилбёри.
Концерт произвёл на меня большое впечатление.
Музыка Фелдмана, известная мне только по записям, казалась мне до того сухой, бесстрастной, монотонной, неподвижной, формальной и пустой.
Джон Тилбёри – немолодой грузный человек – играл её с невероятным драйвом. Я бы даже сказал – деревенско-деревянным драйвом.
Деревянность происходящего не заметить было невозможно. Пол под роялем и стулом пианиста скрипел. Стул качался и скрипел тоже. Рояль шатался, и вообще был то ли плохо настроен, то ли, как говорят, «препарирован»: некоторые клавиши дребезжали, звук других быстро глох.
Тилбёри раскачивался всем телом, дышал как паровоз, что-то бормотал или даже напевал. Сыграв страницу, он кидал её на пол, а запутавшись в пачке нот, делал паузу, потом брал аккорд как ни в чём не бывало, как будто длина этой паузы по поиску следующей нотной страницы была предписана композитором.
Звукоизвлечение было очень живым, подвижным и скрипучим делом. И что удивительнее всего – музыка двигалась.
На компакт-диске, который я купил после концерта (4CD, «MORTON FELDMAN all piano John Tilbury»), скрипа, раскачивания и дыхания не было. Но всё равно это – феноменальная запись. По отзывам многих – лучшая запись произведений Мортона Фелдмана для фортепиано.
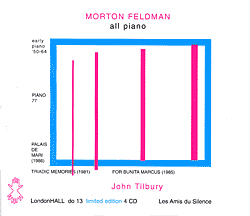
ИНТЕРВЬЮ В КЁЛЬНЕ
Мой интерес к Джону Тилбёри был непростым.
С одной стороны, я вдруг понял, что мне очень хочется поговорить с немолодым музыкантом, небанально исполняющем небанальную музыку, поговорить о его жизненном пути, о его восприятии музыки, о том, как он «делает музыку».
С другой стороны, Джон Тилбёри – действующий участник до сих пор действующего коллектива импровизаторов AMM.
Группа AMM относится к первым импровизационным группам вообще. AMM возникла в начале 60-х годов. Как известно, молодёжь в 60-х – как в Западной Европе, так и в США - была настроена крайне лево, родителей и государство не одобряла и всех своих оппонентов считала фашистами.
И я задумался на тему, не стоит ли за радикальной музыкой, за возникновением рока, конфликт отцов и детей, носящий характер истерической борьбы с фашизмом. Истерической эта борьба с фашизмом стала оттого, что никакого реального фашизма в 60-х годах 20-го века в Германии, Великобритании, Франции и США, разумеется, не было.
Оттого и мой первый вопрос Джону прозвучал, как стук судьбы в дверь.
Была ли ваша мать фашисткой?
Тилбёри, надо отдать ему должное, не подал виду и спокойным голосом заявил, что его мать фашисткой определённо не была. Позже он признался, что мой вопрос его очень удивил и взволновал. Во время наших с ним нескольких встреч он постоянно возвращался к нему, рассказывая о своей матери.
«Мой собственный опыт, разумеется, сильно отличается от опыта, скажем, русских моего возраста, но мне кажется очень важным психологически, что Великобритания не была оккупирована фашистами. Мы не столкнулись с фашистами лицом к лицу... мы испытали фашизм как внешнюю чужеродную силу. Война была всего лишь войной, мы были хорошими, они – плохими, врагами, они нас бомбили. Кто они такие, и зачем нас бомбят, мы не знали.
Я родился в 1936 году, 41-42 я помню очень хорошо. Я помню и убежище. Мы – мать, бабушка, тётки, моя сестра и я - прятались под стальным столом.
Люди говорили о мире, а я не знал, что такое мир. Я не знал ничего, кроме войны... я не могу сейчас перенести себя в ту ситуацию.
Страна тогда состояла из одних женщин, если женщины на улице встречали мужчину, его тут же начинали с ненавистью спрашивать, почему он не на фронте. Мой отец воевал в Египте, в корпусе Монтгомери, дядя – в Италии.
Нас бомбили самолёты V1 и V2.
Они издавали характерный гул. Это был настоящий аудиотерроризм. Ты слышал как падала бомба. И потом – тишина. Ты не знал, куда бомба упала, в твой дом или нет. И потом она взрывалась.
Ночами мы сидели под стальным столом. В Лондоне люди отсиживались в метро. Я не думаю, что наш стол нас бы защитил, хотя мы верили, что если потолок нашего двухэтажного дома обрушится, то металлический стол его выдержит. Это называлось «убежищем Моррисона». Моррисон был министром. «Херберт Моррисон заботится о тебе» - это был такой газетный слоган.
Моррисон устроил на улицах убежища для людей, которые не добежали до подземного бомбоубежища. Это были такие кабинки, вроде современных уличных туалетов. Защиты никакой они, естественно, не давали, но там можно было скорчиться и перевести дух. Средство психологической защиты.
Нет, бомба на нас, на мой стальной стол не упала.
Моя мать много говорила о мире, я воспринимал мир, как ситуацию, в которой будет много конфет. И что вернётся отец. Отец, действительно, вернулся с войны. Он был невероятно счастлив. Он сидел в окопе в пустыне, выжить было невозможно. Но он заболел дизентерией, его послали лечиться в Каир, и он остался там сержантом-администратором.
Я помню речь Черчилля, когда он сказал: «Война окончена». Мне было 9 лет. Я не помню, что именно он сказал, кто именно победил Гитлера. В любом случае, Сталин и русские были друзьями. Сталин, «дядя Джо», он был наш.
Моя мать была за русских... и за чёрных, и за китайцев, и за индусов, за всех, кому было плохо, кто пострадал от колонизаторов и эксплуататоров... она не любила американцев. Она говорила, что американцы пришли на войну слишком поздно, и что они сделали на войне большие деньги.
Потом пропаганда, разумеется, стала утверждать, что это американцы выиграли войну, но мы ей не верили. Мы были очень бедными. Моя мать была крайне бедной. Она стояла всегда на стороне обездоленных, на стороне тех, у кого нет денег, и кто должен тяжело работать. И она научила меня тому же самому.
Это очень странно, что ты спросил меня, ненавидел ли я свою мать и не считал ли её фашисткой. Меня никто никогда не спрашивал об этом. И я иногда думаю: вот я - выживший во Второй мировой. Через десять-пятнадцать лет и меня не будет. И не останется никого, кто помнит это время, кто не проектирует на него сегодняшние проблемы, а просто помнит его. Как сейчас нет никого, кто помнит Первую мировую.
Это очень любопытно, кто что спрашивает и зачем.
Человек спрашивает, когда уже знает ответ.
Пианист Дэвид Тюдор говорил своим студентам: «Если вы этого не знаете, почему вы вообще спрашиваете?»
Джон, но почему же тогда в 60-х тема борьбы с фашизмом стала такой животрепещущей? Почему контркультура была направлена именно против фашизма?
«Под фашизмом стали иметь в виду вовсе не немецкий фашизм, это было слишком узко и слишком специфично. Фашизм стал поминаться в виде прилагательного для описания антисоциального поведения. Ну, непредупредительный водитель ездит как фашист. Полицейский, навешивающий тебе штраф за парковку – тоже фашист. Сначала это звучало иронично. Потом под влиянием марксизма обострилось осознание противоречия между государством и маргиналами. Государство стало восприниматься как форма диктатуры... диктатуры, разумеется, буржуазии. Либерализм – это не более чем фасад, демократия – это вывеска, а свобода иллюзорна. Свобода поминается в каждой фразе, но её на самом деле нет.
Если сказать то же самое проще и агрессивнее, то получится: мы живём в фашистском государстве, и вокруг нас – одни фашисты.
Но я думаю, что на самом деле самую главную роль сыграли психологические причины. Обвинение в фашизме было самым страшным оскорблением. Тот, кто обвинял всех остальных в фашизме, просто защищал свою индивидуальность против тех, кто давил на других людей, бесчувственно наплевав на их нужды.
Никакого фашизма в тогдашнем обществе вообще не было, и я согласен с тобой, что разговор о фашизме таксистов, полицейских, журналистов или депутатов парламента вели люди, реального фашизма не знавшие, или знавшие его по книгам.
Очень может быть, что рок-музыка была выражением этого антифашистского, антисистемного умонастроения, но я к року никакого отношения не имел, я ничего про рок не знаю».
Мои попытки поговорить с Джоном о минимализме, эмбиенте, рок-музыке, Пинк Флойде и Брайене Ино не удались.
Даже о Мортоне Фелдмане он говорить отказался.
Он лишь заметил, что исполнителю обычно всё равно, кого он играет. Развивается профессиональное отношение к делу, и исполняемая музыка профессионального музыканта не затрагивает глубоко. Он исполняет свой профессиональный долг по отношению к ней. Но он ей не предан.
«Если ты профессионал, твоё дело – исполнять чужую музыку и при этом не показывать, что ты об этой музыке думаешь, никого и не интересует, что интерпретатор думает об исполняемой им музыке и что она для него значит.
И в какой-то момент я перестал понимать, почему я должен играть то или это, если меня это ни в коей мере не затрагивает, я перестал играть тех или иных композиторов, мой репертуар усох. Мортон Фелдман, несколько друзей из Америки, из Лондона. Я их изредка и играю... играю я и АММ-музыку.
На самом деле, я играю Фелдмана очень редко, два раза в год. В 70-х, то есть целых 10 лет, я вообще не играл Фелдмана. Я никогда не играл его из соображений карьеры. И меня практически ни разу не просили сыграть Фелдмана, пару раз я играл Фелдмана на BBC, но меня не просили играть именно Фелдмана. Я играю его, когда чувствую в этом внутреннюю потребность».
Джон Тилбёри: «Можно я расскажу про свою учительницу музыки? Она, кстати, была учительницей и Рика Уэйкмана, ну, а для меня она была просто ближайшая от дома преподавательница музыки.
Я просто перечислю несколько фактов, с ней связанных.
Первое. Я никогда не слышал, как она играла. Она что-то показывала, иллюстрировала то, что говорила, но не играла целых произведений.
Второе. Вся музыка пелась. Ведь вся музыка есть расширение возможностей голоса. От нас требовалось петь всё, что мы играли.
Третье. Она написала поперёк моего нотного листа огромными красными буквами LISTEN – СЛУШАЙ. Слушай всё то, что ты делаешь. Самое главное – слышать.
Проблема в том, что музыканты не слушают себя, игра становится рутиной, заученным движением рук.
Меня научили слушать саунд музыки, слышать начало звука и его затухание, начало, развитие и затухание фразы. Прежде всего слышать, а потом – всё остальное.
Четвёртое. Перфекционизм. Тебе говорится: ты играешь это так. Тебе это точно описывается. И ты 15 раз пытаешься это повторить. И рыдаешь от ярости и бессилия. И тут, как говорят: «try, fail, try again. fail better». Пробуй, потерпи неудачу, пробуй, потерпи неудачу лучше.
Нет, речь не шла о виртуозности, совсем не об этом.
Речь шла о гештальте фразы. Ты же знаешь немецкое слово «Gestalt»?
Самое главное – форма, профиль, динамика, пластика фразы, её характер, её внятность, её завершённость.
Речь вообще не шла о той или иной технике игры, о виртуозности игры, или о скорости.
Английский композитор Ховард Скемптон (Howard Skempton) говорил о «виртуозности воздержания» («virtuosity of restraint»).
Вот эти идеи я нёс в себе всю жизнь. Без моей учительницы в моей жизни не было бы музыки. Она решила за меня все проблемы».
В чём разница между импровизационной музыкой и обычной, исполнительской?
«Нотный лист, написанный композитором, это предписание, приказ, это установка: ты должен делать то-то и то-то. Ты не свободен принимать решения.
Проблема партитуры, нотного листа, вообще его наличия или отсутствия очень заботила авангардистов – Кейджа, Булеза, Штокхаузена. Между композитором и исполнителем пролегала пропасть, которую им хотелось преодолеть, или как-то её спрятать.
AMM зашли совсем с иной стороны. Они не умели читать нот – и соответственно их писать. Они были подлинными импровизаторами. Музыка рождалась на их глазах у них из-под рук, им самим непонятная и удивительная.
Меня пригласили в AMM просто потому, что гитарист Кейт Роу сказал, что у меня получаются «красивые аккорды», которые подходят к некоторым звукам его гитары. Я решил, что если он знает, зачем я ему нужен, то мне этого достаточно. Но я стал импровизатором не по своей воле. Меня пригласили. Я от случая к случаю выступал с AMM в 60-х годах, всего несколько раз, а постоянным участником группы стал в 1980.
Описывая ситуацию импровизатора, я люблю цитировать одного нашего знаменитого футболиста. Он сказал: «На самом-то деле, я не умею играть в футбол, но я могу дать пас тому, кто умеет».
Вот и ты - не столько играешь сам, сколько слушаешь, что играют другие и иногда даёшь им пас. От тебя вообще не требуется, чтобы ты что-то делал, даже если ты ничего не делаешь, это значит, что ты что-то делаешь.
От тебя вообще ничего не требуется.
Нет принуждения. Нет нужды».
Но разве не угнетает то обстоятельство, что в результате усилий импровизатора музыка далеко не всегда получается интересной, напряжённой, выразительной? Что она во многом уступает тому, что делали композиторы, писавшие ноты? Что она, по существу, - отказ от традиции, скажем, Гийома де Машо, Баха, Бетховена, Штокхаузена?
«Ты меня провоцируешь! Штокхаузен в этом списке – лишний! Как раз потеря иллюзий относительно Штокхаузена и заставила музыкантов взяться за импровизацию. Мы не за Штокхаузена, мы за товарища Жданова! Знаешь, что он сказал про буржуазную культуру? Вот это и относится к Штокхаузену.
С кем вы, мастера культуры? Для чего вы вообще делаете то, что делаете? И для кого?
Тут очень важно то обстоятельство, что мы не занимаемся самовыражением. Я не знаю, что это значит «выразить себя».
Не выразить себя, а изобрести себя, изменить себя, открыть себя, как открывают далёкую землю, изобрести, как изобретают лампочку.
Немаловажна и идея «автономности музыки»: музыка сама знает, куда ей двигаться. И импровизатор следует за движением музыки, рисует её след, идёт по её следу как охотник по следу зверя.
Об этом говорили и такие писатели как Беккетт и Диккенс. Диккенс говорил, что он только начинает роман, а его персонажи сами начинают друг с другом разговаривать. Персонажи приобретают автономию. И музыка нарастает сама собой и сама за собой следует.
Выражать себя, впечатывать себя в то, что ты делаешь... это омерзительно. Это нечто типично американское, культ своего «я», того, что принадлежит только тебе и что надо любой ценой запечатлеть и задокументировать...»
Тут мысль Джона Тилбёри делает неожиданный рывок, и, сказав пару крайне нелестных слов о США и о том, что он обнародовал свой отказ когда-либо посещать США в будущем, он обрушивается на русских:
«Мы вам, русским, никогда не простим, что вы просрали холодную войну! Вам не надо было в неё ввязываться. Кого хотел догонять и перегонять Хрущов?
США?
Чтобы что? Чтобы у всех был свой телевизор? И что, есть он у вас? И что же вы по нему смотрите? Американские сериалы и рекламу? И довольны жизнью?
Вы нас предали. Вы сделали все ошибки, какие только были возможны. Вы своими ошибками, своей глупостью, своим окончательным провалом подвели под монастырь всё приличное, что было на Западе
Я был членом британской компартии. Меня никто не агитировал за Коммунистический манифест. Когда я его прочитал, я сказал: я всё это и так знаю, это же очевидно. Я научил этому и своих детей».

ИНТЕРВЬЮ В ДИЛЕ
Я воспользовался приглашением продолжить разговор и приехал в приморский городок Дил, в котором сегодня живёт Тилбёри. Мне хотелось расспросить его о минимализме, о Пинк Флойде (всё-таки АММ играли в 60-х вместе в Пинк Флойд), о смысле импровизации.
Вы играете Фелдмана уже более сорока лет. Имеет ли минимализм для вас какое-то особенное значение?
«Минимализм – это сомнительный термин. Иногда имеют в виду минимум использованных средств, порой – минимальное воздействие... А это вещи противоположные. Что касается меня, то я сторонник минимальных средств, которые имеют максимальные последствия.
Последствия, которые оказываются в высшей степени богатыми и насыщенными».
Что Вы имеете в виду под последствиями?
«Саунд, звук музыки».
Поздние сонаты Шуберта не богаты в смысле саунда?
«О, да, конечно. Я вовсе не говорю, что это исключительное свойство именно минималистической музыки.
Что такое минималистическая музыка? Ну, возьми фразу и просто повтори её. Это может быть интересно, а может и не быть. Это зависит от того, что ты ищешь. Тебя может интересовать то обстоятельство, что каждое повторение слегка отличается от предыдущего. Этот аспект важен для таких композиторов как Терри Райли, Стив Райх... pattern music... Но что ты называешь minimal music? О какой minimal music ты меня спрашиваешь?»
Я сам не знаю. Я в курсе, что под названием «минималистическая музыка» проходит много чего разного. Вопрос, наверное, не в том, что это такое на самом деле, но, скорее, почему минимализм был музыкой 60-х, что было такого привлекательного в этой музыке для той эпохи?
«Я думаю, что идея пришла с Востока – «весь мир в песчинке». Одна идея может быть источником... всего... но мы говорим о музыке?... источником музыки, которая сложна и богата. Хорошим примером может служить седьмой параграф сочинения Корнелиуса Кардью «Great Learning» - где средства крайне просты, а результат в высшей степени сложен и запутан.
Я не думаю, что повторение ради повторения так уж и интересно.
Но для 60-х по-моему была характерна негативная реакция на усложнённость, на избыточные ноты, на перенасыщенность музыки нотами, на штокхаузеновское требование постоянных изменений.
Против всего этого и было направлено желание взять достаточный минимум материала и работать, повторяя его или варьируя.
Но исток, по-моему, всё-таки в восточной идее мантры – ты понимаешь что-то или же какого-то воздействия путём повторения».
Я часто встречал мнение, что язык тональной музыки, музыки 19-го века, исчерпан. Всё, что можно было сказать на этом языке, уже было сказано.
«До сих пор существует масса музыкантов, как исполнителей, так и композиторов, вполне счастливых от того, что они обладают тональной системой. Более того, для них она – нечто обязательное, без чего музыки вообще не бывает. Это именно то, что музыка имеет в виду, хочет сказать... для многих людей смысл музыки связан с тональностью, с системой тональных связей и напряжений.
Если тональность и умирает, то ей для этого требуется ужасно много времени. Если мы сейчас включим радио, мы услышим тональную музыку. Она в высшей степени доминирует.
Смерть тональной музыки – это некоторая идея, или даже скорее - нескорое решение, принятое в кругу западноевропейских интеллектуалов в 50-х. Этот круг интеллектуалов на самом деле был намерен продолжить исполнять высокое предназначение западноевропейской классической музыки – они имели в виду немецкую музыку, Бетховена.
Одновременно в 50-х те композиторы, которые продолжали путаться в тональной музыке, скажем, Шостакович и Бриттен, превратились в объект насмешек, их просто перестали считать композиторами, они были дураками и идиотами, потому что настоящие-то композиторы понимали, что надо писать сериальную музыку.
Некоторое время это продолжалось, но постепенно ситуация изменилась, Джон Кейдж ввёл случайный элемент в сочинение и исполнение музыки. Сериализм стал разваливаться, но тональная музыка продолжала восприниматься как что-то, чем занимаются морально устаревшие идиоты-реакционеры.
И если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, ситуацию после кризиса, если кризис вообще когда-то имел место, то мы обнаружим в высшей степени эклектичную ситуацию – каждый композитор работает в своём стиле, в своих собственных координатах, в своей системе. Сегодня существует масса разных неоромантизмов, неоклассицизмов... и сериализм всё ещё существует, но он занял своё место, он перестал быть доминирующим методом сочинения музыки. В любом случае, от идеи, что сериализм – это музыка будущего, отказались».
Что Вы делаете в АММ?
«Я определённо не исполняю музыку какого-то композитора, чужую музыку. Но я и не исполняю свою музыку, я играю «музыку АММ».
АММ-музыка как бы проходит сквозь меня, я выступаю её медиумом. Для меня АММ – как партия, как коммунистическая партия, и моя деятельность в группе – деятельность партийная. Об этом говорил Бертольд Брехт... если ты допустил ошибку, твои товарищи по партии тебя накажут... ты должен пойти и сделать то-то и то-то во имя партии, на благо партии... это твой партийный долг.
Если мы трансформируем это отношение к исполнению музыки, то это и будет музыка АММ, как мне очень сильно кажется. Исполнение долга перед некоторой высокой и неформализуемой инстанцией. Потому что партия – это кто такой? Это кто-то, кто сидит в каком-то доме и отдаёт приказы по телефону? Нет, партия – это мы. Партия – в твоей голове. Там, где я живу, там – её дом. И там, где на меня нападают, там место её борьбы. Бертольд Брехт.
Партия становится своего рода существом, организмом, единством.
Коммунисты возможно не могут сказать, что такое коммунизм, но они в каждой конкретной ситуации понимают – коммунист поведёт себя так, по-коммунистически должно быть так. Это в них работает партия. Да, это очень похоже на музыкальную импровизацию.
АММ – это партия.
Когда я так говорю, я вовсе не агитирую, скажем, за коммунизм. Я пытаюсь объяснить, что я не играю и «музыку Джона Тилбёри». Я не считаю себя композитором. То, что я играю, приходит сквозь меня, проходит сквозь меня, но ко мне это приходит от АММ. Но я не знаю, что такое АММ, я не могу это сформулировать. Выражение, что «АММ – это джаз Джона Кейджа» я, конечно, знаю».
Член партии знает, какая позиция не является позицией его партии. То есть он точно знает – против чего он выступает.
Возможно, мы подойдём ближе к проблеме «что такое АММ-музыка», рассмотрев, что было недопустимо в рамках АММ? С чем следовало бороться?
«Теоретически говоря, АММ-музыка всегда открыта для всего, ничего не исключено, возможен каждый звук. Но на практике, ты играешь что-то одно, и не играешь много чего иного. То есть практическая реализация музыки вовсе не объемлет весь спектр принципиально возможного.
Проблема не в том, чтобы сыграть всё возможное, проблема в том, чтобы сыграть что-то. То есть нужно выбирать в именно этот момент. И тут появляется партия, которая тобой руководит... появляется что-то, во имя чего ты принимаешь решение. Я не знаю, как это назвать, это не идеология, нет. Это и не стратегия. Это лежит значительно глубже. Это то, что даёт смысл тому, что ты делаешь.
Мы можем вернуться к моменту, когда я в 1980 получил предложение стать постоянным участником АММ, то есть впрыгнуть в уже движущийся поезд. Я не знал, куда этот поезд движется, но мне надо было решаться. Я так до сих пор и не понимаю, почему они попросили меня к ним присоединиться, но я впрыгнул в их поезд. И я до сих пор не знаю, куда этот поезд идёт.
Но с годами моё убеждение всё более усиливается: поездка сама по себе имеет смысл, куда больший смысл, чем любая другая поездка, которую я бы себе придумал. И наоборот - какой-то определённый пункт назначения не имеет никакого значения. Путешествие само по себе имеет необычайное значение».
Хорошо, что касается деятельности в долгосрочной перспективе, то тут я понимаю, что имеется в виду, Но когда Вы играете музыку, Вы должны решать, какую клавишу нажмёте следующей, какой аккорд возьмёте, сколько будете тянуть паузу. Или же Вы находитесь в состоянии транса?
«Нет, не в трансе. Наоборот – в состоянии высочайшей концентрации и самообладания, в состоянии очень резкой наведённости на фокус.
Это одновременно и интенсивная работа ума.
Скажем, я играю фразу. Я повторяю её. Я повторяю её ещё раз. Наступает момент, когда я должен решать – я повторю её ещё раз или нет? Я не обязательно думаю словами, но я, безусловно, постоянно принимаю решения: повторить уже сыгранное? Уйти куда-то в сторону? Изменить только что сыгранное? Как изменить?
При этом это очень музыкальное мышление, очень острое музыкальное мышление. Ты должен мыслить не только очень ясно и очень музыкально, но и в высшей степени быстро. Раз, раз, раз... очень быстро три разных решения... они играют это... я играю вместе с ними? я строю параллельный слой? или я ухожу в сторону?
Все эти решения принимаются внезапно, и чтобы они имели смысл для тебя самого и для слушателя, они должны быть разумными решениями, внятными ходами. Но очень быстро, буквально спонтанно, принятыми.
И как раз в этом огромная разница между музыкой импровизационной и музыкой, записанной на бумаге.
В момент импровизации существует масса напряжений с твоими коллегами, скажем, напряжение между тем, что ты собрался сыграть и тем, что уже начали играть они. Возникают разного сорта раздражающие ситуации, ты фактически мешаешь играть им, а они – тебе... что делать? Хочешь ты их меньше раздражать? Или же нет? Тут очень много чисто психологических ситуаций, психо-музыкальных».
Если я принимаю решения очень быстро, то их довольно заметная часть будет неправильной?
«Ты можешь размышлять полсекунды, а можешь – час. И твоё решение после часа размышления может быть тоже неверным. Может статься, что и через час размышлений ты не придумаешь ничего иного чем то, что пришло тебе в голову в первые же полсекунды после начала твоих размышлений.
И доказательство этого – то чудовищное количество чудовищно плохих композиций, про которые предполагается, что их авторы очень долго и серьёзно размышляли над каждой нотой, над каждым изменением. Они думали долго: недели, месяцы, годы... и результат просто катастрофический. То есть долгое размышление – вовсе не гарантия убедительного результата. Очень часто бывает прямо наоборот. Но дело не во времени...»
Да, не во времени, а скорее – в том, есть ли у меня вообще возможность исправить начатую линию, если я вдруг понял, что заехал не туда....
«...тогда ты можешь изменить контекст, общую ситуацию. И в новом контексте твоя линия окажется правильной и осмысленной, хотя в старом она была неуместной.
Телониус Монк однажды спустился со сцены крайне недовольным: «Все мои ошибки были неправильными» («I played all the wrong mistakes»).
Кроме того, когда я собираюсь что-то сыграть, я не знаю точно, что именно я сию секунду сыграю, но я знаю качество звука, я примерно представляю себе саунд. Форма руки определяет саунд. Если мои пальцы сжаты вместе – это будет диссонансный аккорд, если чуть разведены, то более благозвучный, если ещё больше растопырены, то я захвачу и целую октаву... Взаимное расположение пальцев, то есть форма, которую принимает моя рука, определяет саунд, но определяет далеко не всё. Что реально прозвучит – я сам не знаю, а какой у этого будет смысл, во многом будет ясно из того, что я сыграю в качестве следующего шага.
Ты имеешь дело не с гармониями, но с качествами саунда, с агрегатами нот, с саундом звуковых массивов.
После того, как ты что-то сделал, ты это сам слышишь и ты можешь это повторить или изменить. Скажем, здесь слишком много напряжения, слишком высока плотность... и ты можешь шаг за шагом ослабить интенсивность, ты как бы шаг за шагом придаёшь музыке форму, формуешь её...
Скажем, ты переставляешь мебель в комнате: поставлю-ка я кресло к окну, да, смотрится хорошо, но я перегородил проход, поставлю я его тогда с другой стороны, тогда мне придётся развернуть шкаф.... происходит тьюнинг пространственной ситуации. И это процесс настройки пространства, шаги этого процесса организации и благоустройства пространства и становятся музыкой.
Это и есть импровизация».
июнь 2004