То, что по-английски называется Hat, а по-немецки Hut, по-русски звучит как «Шляпа».
В каталоге Шляпы – более 300 релизов, обозреть их все или охарактеризовать в двух словах просто невозможно.
Швейцарский лейбл HatHut (www.hathut.com) создан в 1975-м году, тогда он выпускал грампластинки с авангардным джазом. Джаз – по-прежнему далёкий от мейнстрима – выпускается лейблом и до сих пор, но мне более интересной кажется другое направление его деятельности – так называемая Neue Musik (Новая музыка). Имеется в виду серьёзная музыка второй половины 20-го столетия, академический авангард.
На HatHut в серии [now]Art вышло много компакт-дисков с классикой американского минимализма – с произведениями Джона Кейджа и Мортона Фельдмана, но много и музыки куда менее известных композиторов.
Пятнадцать лет (с середины 80-х до 2000-го года) независимый от гигантов звукозаписи лейбл фактически существовал на спонсорские деньги корпорации швейцарских банков (UBS), именно этим объяснялась его феноменальная продуктивность и живучесть. Сейчас, после прекращения спонсорства, для лейбла HatHut, реализовывавшего дорогостоящие амбициозные проекты, настали непростые времена.
Все релизы с серьёзной музыкой оформлены однообразно: белый квадратик картона, на котором тонкими чёрными и красными буквами написаны имена авторов и исполнителей музыки. Вид лаконичный и конструктивистский.
Каждый компакт-диск сопровождают крайне поучительные тексты.
По поводу качества записи можно сказать, что оно высокое, но своеобразное. Высокое в том смысле, что музыка записана прозрачно, хрупко и даже элегантно, иногда с большим количеством эхо – это происходит оттого, что записи делались в помещениях каких-то крупных архитектурных объектов.
Тонкость и хрупкость звука, часто доходящие до стерильности и холодной неживости, очевидно, связаны с эстетической позицией руководства лейбла, это не недосмотр. Мне нравится, как правило, более массивный и сочный звук, более, так сказать, материальный, поэтому к релизам лейбла HatHut я отношусь, в целом, недоверчиво.

Альбом «Push Pull», то есть «Тяни толкай», итальянского аккордеониста Теодоро Анцеллотти.
У аккордеона – пожалуй, самая незавидная судьба изо всех западноевропейских музыкальных инструментов. Аура инструмента, кажется, неотделима от неприятных воспоминаний о принудительном музицировании в детском возрасте, от духа фиктивного фольклора, от банальностей учебных полек и вальсов. Очень много людей ненавидят аккордеон.
Аккордеон – как и саксофон – дитя прихода индустриализации в производство музыкальных инструментов в 19 веке.
Итальянский композитор Сальваторе Шиаррино (Salvatore Sciarrino) заявил, что история аккордеона имеет очень сильный привкус, даже запах, который его совсем не интересует. Но у инструмента есть сущность, его скрытое ядро, что-то, что даёт ему смысл. Но как найти этот скрытый смысл?
Можно анализировать механику инструмента. Играть на аккордеоне означает давить на клавиши, раздвигать и сдвигать меха, достигая вибрации воздуха разной степени интенсивности. Пьеса Шиаррино «Vagabonde blu» и базируется на трёх элементах: на щёлкании клавиш, на вибрации или трели звука и на белом шуме дыхания инструмента.
«Что я открыл – и это меня самого изумило, - сказал композитор, - это то, что аккордеон может дышать. Можно отказаться от всего остального и остаётся это чистое дыхание машины. Я начал работу над пьесой с очень сложного деления времени на доли, а кончил тем, что пришёл к душе, дыханию, движению. Инструмент дышит как лёгкое. Это не внешний эффект, а антропологическая концепция музыкального языка».
На альбоме «Тяни толкай» пять пьес пяти современных композиторов, аккордеон может не только шуршать, но и визжать... не только дышать, но и производить неживые, как бы застывшие в пустоте звуки.

Альбом немецкого барабанщика Фрица Хаузера.
Записан в Берлине в 1985-м году. Никакой обработки звука – то есть наложения разных дорожек друг на друга или применения эффектов - не производилось. Всё эхо – от акустических свойств помещения: запись сделана в огромном ангаре Мартин-Гропиус-Бау, это знаменитый выставочный зал. Под высоченной стеклянной крышей звук вибрирует в течении семи секунд.
Фриц Хаузер неподвижно сидит за своими барабанами – минимум жестов, минимум активности. Его музыка не предполагает никакой деятельности, которую можно увидить, никакого приложения физического труда. Ритмической дисциплине его музыки соответствует дисциплина поведения музыканта.
Свою ударную установку Фриц Хаузер нашёл на свалке, по-видимому, это обстоятельство соответствовало его индустриально-дзенской идее музыки, которая появляется сама собой в результате напряжённого и сконцентрированного неделания.
Нет слов, Хаузер – минималист-виртуоз, его ритмические слои живут независимой жизнью, кажется, что каждый из них находится в своём пространстве – со своей динамикой, объёмом, шершавостью стен, даже возможно освещённостью.
Некоторые слои звука звучат механично, как метроном, другие дрожат и перекатываются, третьи проявляются всего один раз. При этом музыка производит простое впечатление – то это «просто стук», то «просто звон», то «просто медленно нарастающее и ослабевающее шуршание».
Хаузер применяет крайне ограниченный набор средств – деревянные палочки, кисточки, палочки, обитые войлоком или кожей, а также собственные пальцы. Часто он заглушает звук, надавливая на мембрану барабана руками или пальцами. И это всё.
Смысл этой музыки, как мне кажется, состоит в том, что каждый ритмический слой устроен предельно просто, но в каждом слое течёт своё время. То концентрируется, то, наоборот, рассеивается и теряется своя энергия.
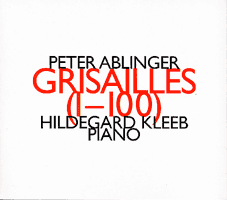
Опус живущего в Берлине австрийского композитора Петера Аблингера «Гризайль (1-100) для трех роялей» предполагает, как понятно из названия, три слоя звука.
Их по очереди исполнила и записала пианистка Хильдегард Клеб.
Гризайль – это редкая и крайне ценная разновидность средневекового витража. Пример можно найти в церкви в монастыре Святого креста, находящегося под Веной.
Выглядит гризайль как абстрактный узор серого цвета. Но весь фокус в том, что свет, проходящий сквозь такое стекло, не отбрасывает тени, то есть падает во все стороны. И независимо от того, какое именно освещение на улице – яркое солнце или пасмурный день, из окна льётся нейтральное серое сияние. На полу никаких цветных бликов или рисунков, которые отбрасывает обычный витраж, нет.
Петер Аблингер написал 24 слоя музыки, они должны звучать одновременно, у каждого своя структура и скорость. 3 пианиста, конечно, не в состоянии извлечь эту массу звуков и играют то, что могут, то, на что упадёт взор.
Эти слои партитуры, как несложно догадаться, соответствуют слоям света, которые под разными углами падают из гризайль-витража. Сами по себе отдельные слои просты и геометричны, их наложение непредсказуемо.
Всё время повторяется без слышимых изменений один и тот же громкий и торжественный аккорд, впрочем, он – и его многослойное окружение, так сказать, акустическое сияние - постоянно меняется, скучной и однообразной эта музыка не становится. Сочинение тянется 50 минут, но музыкальный объект, которому мы внимаем, кажется, совсем не велик, он медленно поворачивается перед нами своими строгими гранями.
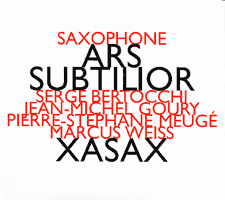
Альбом, записанный швейцарским квартетом саксофонистов Xasax. «Ars Subtilior» в переводе с латыни значит, похоже, что-то вроде «Утончённое искусство».
Как и у аккордеона, у саксофона не очень хорошее наследство. Звук саксофона стал клише, прекрасно известно, как должен звучать саксофон – напевно, терпко, проникновенно, иногда мягко романтично, иногда надрывно и разрывающе душу. На саунде саксофона, кажется, на веки вечные стоит клеймо «относится к джазу».
Собственно, и этот альбом – на котором среди произведений современных композиторов есть баллады 14 века – время от времени начинает звучать подозрительно джазово.
Лишь в первой пьесе, принадлежащей перу французского композитора Юга Дюфура (Hugues Dufourt), саксофоны функционируют как нейтральные гуделки или, точнее, дышалки.
Дюфур относится к так называемой «спектральной школе»: мы слышим чётко разделенные слои звуков разной высоты, эти длинные линии, складываясь, образуют звуки разной окраски. То есть музыканты играют не саму музыку, а её частотный спектр. Эта концепция близка к идее, стоящей за аддитивным аналоговым синтезатором.
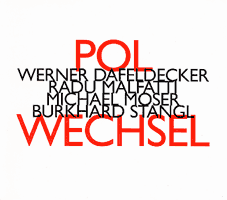
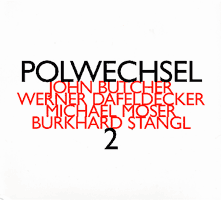
Polwechsel 2 (1999)
На лейбле HatHut вышло и два альбома квартета Polwechsel («Смена полюсов»). Им руководит гитарист и басист Вернер Дафельдекер (Werner Dafeldecker) – известная фигура в импровизационной музыке.
Его квартет играет тихо и вдумчиво. Музыка призрачна и неспешна.
«Решение о композиции, – говорит Дафельдекер, - связано с доверием, которое ты испытываешь к звуку: хватит ли у этого звука силы быть помещённым в различные контексты в течение долгого периода времени? Звук является источником вдохновения... а потом ты переходишь на следующий уровень – как долго можно делать на этом звуке акцент? что с ним вообще можно делать? что происходит, когда ситуация несколько меняется?»
Квартет Polwechsel не ищет звуки, он, скорее, их слушает, да и не звуки это, а, скорее, какие-то нюансы тембра – дело ограничивается крайне скромным и сдержанным набором выразительных средств.
Мне кажется, музыканты, играя, стремятся удержать звук, сохранить его, сберечь и не расплескать. Не заменить его чем-то ему чуждым и необязательным, но услышать, какие возможности скрываются в звуке самом по себе, куда он движется, если ему никто не мешает своими мохнатыми ушами и нечуткими пальцами.
Понятное дело, что это во многом безнадёжный проект, на успех предприятия надежд мало, не телепаты же музыканты, в самом деле? Впрочем, у мастеров глубоководного ныряния в саунд иногда получается на редкость насыщенная и настойчивая музыка, чуждая всякому произволу и волюнтаризму.
Интересны оба альбома, первый – более акустический, живой и хрупкий, музыка второго куда больше смазана и замедленна. В записи первого принимал участие тромбонист и композитор Раду Малфатти (Radu Malfatti). Похоже, всякая минимал-импровизация, к которой прикасается Малфатти, превращается в золото. Для меня это имя – знак качества.

Компакт-диск американского композитора аргентинского происхождения Гульермо Грегорио. Он называется «Степени изобразительности». Композитор относит себя к конструктивистской струе искусства 20-го столетия. При этом он вовсе не полагает, что его произведения не обращаются к живым людям, нет-нет, его музыка выразительна и изменчива. Не смотря на свою изменчивость, лёгкость и даже нервность, построена она по примерно тем же самым правилам, по которым строили свои композиции классики геометрического абстракционизма и конструктивизма.
В одной из пьес Гульермо Грегорио рассматривает музыкальные инструменты как материальные объекты – деревянные, проволочные и металлические, дескать, и Владимир Татлин по тем же самым принципам комбинировал дерево, металл и проволоку в своих барельефах. Ноты пишутся в вершинах геометрических фигур – квадратов и треугольников, которые затем вращаются или сдвигаются друг относительно друга. В результате возникают их новые комбинации и последовательности.
Музыка состоит из отдельных фраз, произнесённых солирующим инструментом, эти фразы не похожи друг на друга. Музыка переходит из одного акустического состояния в другое, показывая нам маленькую, буквально миниатюрную картинку. Удивительно, что за ней каждый раз лежит какой-то формально-геометрический метод композиции.
Маленьким ансамблем руководит сам композитор, он же играет на кларнете и альт-саксофоне.
июнь 2003