
Отправляясь на интервью с аккордеонистом Теодоро Анцеллотти, я заготовил целый список вопросов – и потому, что аккордеон сегодня кажется инструментом экзотическим, и потому, что Анцеллотти – признанный виртуоз.
Ему 45 лет. По происхождению он итальянец, но уже очень давно живёт в Германии. Он профессор консерватории, среди его учеников в настоящее время – пять русских. Анцеллотти несколько раз подчеркнул, что у русских – особая любовь именно к аккордеону, но я ему не очень поверил.
Бесконечен список оркестров, с которыми играл Теодоро Анцеллотти, и фестивалей, на которых он выступал, им записано и много интересных дисков.
Репертуар маэстро обширен, начиная от музыки барокко: Фрескобальди, Скарлатти, Бах, и до музыки самой современной: Берио, Штокхаузен, Кагель.
Именно современная музыка находится в центре интереса Теодоро Анцеллотти, в последние два десятилетия многие композиторы написали свои сочинения для аккордеона соло или же включили аккордеон в состав ансамбля, имея в виду именно Анцеллотти.
anz-anzellotti.jpg
И С Т О Р И Я И Н С Т Р У М Е Н Т А
На площади в двух шагах от кёльнского собора, где мы с ним договорились встретиться, раздавались громкие и не лишённые металлической надрывности звуки аккордеона. Уличный музыкант играл что-то популярно-классическое, знаменитую фугу Баха.
От этих звуков все заготовленные вопросы моментально вылетели из моей головы, и я спросил своего собеседника, как он относится к звучащей на площади музыке, не раздражает ли она его, не оскорбляет ли.
«Нет, совершенно не оскорбляет, потому что я себя с этими звуками ни в коем случае не идентифицирую. Это вполне обычная игра на аккордеоне, она крайне распространена, 99 процентов, а то и больше, музыки для аккордеона звучит именно так. Это коммерческий стиль. Эта музыка хорошо подходит к улице.
На самом-то деле, карьера аккордеона именно с этого и началась, с игры на улице, аккордеон был для этого и создан: для исполнения мелодии с сопровождением. Весь оркестр - в одном инструменте, это очень экономное решение. Всё играет один человек: ритм, аккорды и мелодию.
И оттого аккордеон сделал стремительную карьеру в 19 веке. Нет ничего необычного в том, что он звучит на улице и сегодня, это очень эффективный ящик. Более того, аккордеон – предшественник электронных синтезаторов, дешёвых электронных клавишных инструментов – этих Касио, Ямах и прочих. Они эксплуатируют ту же самую идею.
Музыка – танцевальная, народная, песенная – была радикально упрощена и буквально втиснута в аккордеон. И это имело для музыки целый ряд последствий. Аккордеон был не в состоянии играть все гармонии, тем самым он изменил народную музыку, он её упростил. Из-за навязанного аккордеоном упрощения европейский фольклор в 19 веке стал развиваться в сторону большей выразительности и точности. Я не хочу сказать, что я оцениваю это развитие как позитивное, я лишь хочу подчеркнуть, что воздействие аккордеона определённо имело место».

Позаимствовано с сайта jeanluc.matte.free.fr. Там много классных фотографий.
То обстоятельство, что музыкальный инструмент сильно меняет музыку, которую он вроде бы должен правдиво исполнять, кажется мне крайне любопытным, но ведь очевидно, что и аккордеон в свою очередь тоже изменялся и развивался?
«Да, он проделал невероятный путь. Прежде всего, кардинально изменился концертный инструмент. И прежде всего в двух странах – в Италии и в России. В России есть прекрасный мастера, делающие баяны, потрясающие мастера. В моём инструменте язычки – то есть металлические полоски, которые вибрируют в потоке воздуха и издают звук – сделаны в России, потому что нигде больше не делают язычки так хорошо как в России. Их моментально слышишь. Сейчас на площади играет русский аккордеон.
Всё остальное в моём инструменте – корпус, вся механика – сделано в Италии, но самое важное, самое тонкое и по-видимому самое чувствительное – сделано в России».
Теодоро Анцеллотти пояснил, что его инструмент в целом стандартный, но он был улучшен и настроен, заменены некоторые детали – скажем, на изготовленные из другого материала. Всё это для того, чтобы лучше отвечать потребностям конкретного музыканта.
Если сравнить аккордеон с фортепиано, то мы увидим, что история развития фортепиано куда более длинная, в фортепиано вложено куда больше ума. Можно ли сказать, что аккордеон в каком-то смысле недоразвит?
«Да, это верное наблюдение. Надо сказать, что аккордеон – это дитя индустриализации. Аккордеон возник в эпоху индустриализации. Его изготовляли на фабрике, это был совсем иной технологический процесс. В предыдущую эпоху мастер долго возился с одним инструментом, как в случае скрипичных дел мастеров... правильно, на ум сразу приходит Страдивари.... были свои гениальные мастера и в истории фортепиано, и в истории духовых инструментов. А аккордеоны сразу изготавливали промышленным способом.
И лишь совсем недавно, в последние десятилетия стали появляться мастера, занимающиеся аккордеоном. Оттого аккордеон остаётся сравнительно молодым инструментом, есть ещё обширное поле для исследований и экспериментов, которые далеко не завершены. Иными словами, аккордеон находится в процессе развития.
На музыкальных ярмарках ежегодно представляются новые модели, тут царит настоящая конкурентная борьба – кто сумеет улучшить инструмент, улучшить его механику, как-то расширить возможности, улучшить звук. Скажем, определённые звуки в басу становятся более чёткими, более громкими, или звуки в высоком регистре быстрее и чётче реагируют на изменение давления воздуха, меняется тембральный баланс, меняется поведение звука, его развитие – скажем, звук становится более ярко очерченным... очень многое меняется, многое улучшается шаг за шагом. Механика меняется. Уменьшается вес».
И С Т О Р И Я М У З Ы К А Н Т А
Почему вы вообще играете на аккордеоне?
«Это у многих аккордеонистов так, кажется мне, и у меня тоже: потому что кто-то из старших в семье играл на этом инструменте. В моём случае играл мой отец – на праздниках, на танцах. Он не знал нот, всё играл со слуха. И для меня это был самый главный инструмент с самого моего детства – инструмент моего отца.
Это объясняет, почему я начал на нём играть, но не объясняет, почему я не бросил.
Конечно, я переживал кризисные ситуации. Аккордеон был моей страстью, я хотел играть именно на аккордеоне, я хотел стать профессиональным аккордеонистом. Поступить в консерваторию мне было совсем не просто: в начале 80х было не так много консерваторий, в которых преподавали аккордеон. Мне ужасно повезло. Но я быстро заметил, что у аккордеона паршивая репутация – ещё хуже чем у блок-флейты. Я был очень удручён, ведь я оказался в ситуации аутсайдера. Я был смущён и не знал, что делать. И моё смущение вдохновило меня набраться терпения, двигаться вперёд и что-нибудь этакое развить, придумать, реализовать... стать единственным исключением из общего безрадостного правила. Я об этом мечтал.
Тогда не было известно ни одного аккордеониста, который давал бы концерты и мог бы на это жить. Это была моя надежда. Я знал, что если мне это не удастся, то я всегда смогу зарабатывать себе на пропитание в качестве преподавателя музыки, ведь всегда есть много детей, играющих на аккордеоне.
Конечно, иметь мечту – я сделаю из аккордеона концертный инструмент – это здорово, но время от времени меня охватывала чёрная тоска – ну, что я с этим неподатливым ящиком связался! И я бросал на нём играть. Я попытался стать дирижёром, потом взялся за изучение композиции, но каждый раз я видел, что аккордеон – это моя любовь, это то, что я могу лучше всего. Да, я ещё пытался перейти на фортепиано, на кларнет, я даже пел.
Все эти шаги в сторону расширили мой горизонт, изучение композиции познакомило меня с современной музыкой, я решил, что буду играть совершенно новый репертуар, музыку 20-го столетия, потому что в консерватории нас учили играть переложения классики».
И Н С Т Р У М Е Н Т
Что вы любите в аккордеоне, что в этом инструменте для вас особенного?
«Прежде всего я люблю аккордеон в целом, такой аккордеон какой он есть - вместе с его слабыми сторонами, то есть с его звуком.
Если бы я взялся характеризировать звук аккордеона, я бы назвал его затуманенным, скрытым, меланхоличным. Когда я беру аккорд, играю длинный тон или мелодию, то я затрагиваю область сердца. Есть инструменты, ударные например, они совсем не затрагивают твоего сердца, а, скорее, волнуют кровь.
А аккордеон... когда я играю всего лишь один аккорд, начав его тихо, потом громко, потом опять тихо, крещендо-декрещендо... то получается очень архаичный тон, звук гудящих металлических язычков... я люблю его, я готов слушать его вновь и вновь.
Более того, мне звук аккордеона нравится всё больше и больше, потому что со временем возрастает моя дистанция к инструменту. Я могу отступить назад и просто слушать то, что аккордеон сам собой играет. Когда ты позволяешь инструменту самому играть, перестаёшь им манипулировать, то возникает совершенно новое отношение.
Сегодня я начал делать вещи, которые я раньше никогда себе не разрешал, скажем, оставлять звук аккордеона грубым и необработанным, не стремиться посредством сладкозвучия облагородить звук, сделать его цветущим. Я не боюсь оставить его скудным, бедным.
Это безусловно имеет отношение к моей самоуверенности, к моему опыту.
Игра на инструменте развивается и изменяется у каждого музыканта. Сегодня ты играешь не так как десять лет назад или пять лет назад. Это постоянный процесс обновления».
Можно ли говорить об уникальности аккордеона? Мне кажется, что его звук сам по себе не такой уж неповторимый, ведь аккордеон – это фактически переносной орган.
«Да, разумеется, вы правы, в аккордеоне прячется орган. Но – не только орган. В аккордеоне прячется и струнный инструмент – меха приходится двигать как смычок. Звук извлекается потоком воздуха – потому это и духовой инструмент.
Аккордеон можно смело назвать гибридом.
На орган аккордеон похож только в том смысле, что звук не исчезает как на фортепиано, но может быть удержан, вытянут, сделан статичным. Более того, аккордеон позволяет изменять динамику звука, то есть делать его громче и тише – а орган этого не может... только через включение-выключение каких-то регистров-переключателей с тихого на громкое. На органе принципиально невозможно постепенное наращивание или ослабевание тона.
И это очень важный момент, потому что благодаря этой динамике аккордеон дышит, аккордеон – в высшей степени дышащий инструмент. То, как я набираю в меха воздух и его выпускаю, делает аккордеон похожим на человека.
Аккордеон это лёгкие. А орган – это не дышащий инструмент».
Н Е П О Д В И Ж Н О С Т Ь
Дыхание ассоциируется со свободой, с дыханием полной грудью. Парадоксальным образом, на сцене Теодоро Анцеллотти выглядит в высшей степени сухо, сдержанно, почти неподвижно, как человек-машина Крафтверк. Он строго блестит своими очками. Каждое его движение быстро и точно, у каждого движения есть начало и конец, исполнив стремительное движение, музыкант опять замирает.
Слово «точность», как мне кажется, подходит тут лучше всего.
Было странно видеть как постоянно замирающий и внешне совершенно безучастный Теодоро Анцеллотти играл пьесу итальянского композитора Сальваторе Шиаррино «Vagabonde Blu», пьесу, посвящённую именно свободному и медленному дыханию.

Teodoro Anzellotti «Push Pull» (Hat, 1999)
Пять непохожих друг на друга пьес пяти современных композиторов.
Первая - Vagabonde Blu Сальватора Шиаррино (Salvatore Sciarrino).
«Шиаррино в своей пьесе «Вагабонде блю» предписывает неподвижность. Это значит, что поведение исполнителя не может быть телесным экстазом, иначе произведение будет разрушено. Эта пьеса живёт, исполняется, раскрывается для уха. И если мне удаётся справиться с задачей максимального самоограничения движения, то у публики тоже отрастают большие уши, публика начинает лучше и точнее слышать. Это как раз то, чего я хочу добиться – концентрации только на слушании.
Конечно, визуальный аспект при восприятии музыки играет свою роль. Прослушивание компакт-диска – это совсем иное дело, чем когда ты видишь перед собой спокойно сидящего человека, сконцентрированного на минимальном: на минимальном движении и действии.
Эта пьеса сконструирована, я бы сказал, математически, очень строго. Движение вперёд организовано в соответствии с арифметическим законом, последовательности чисел, размечающих начало и конец того или иного события, накладываются друг на друга, расходятся и сходятся.
Это очень интеллигентно написанная музыка.
Но вся эта конструкция не будет работать, если она не будет дышать. Мы имеем дело с машиной, которая оживает.
Это парадокс. Но музыка и функционирует благодаря парадоксам».

Фотография нечёткая, но похожая.
Я попытался убедить Теодоро Анцеллотти, что максимальная сдержанность, сухость и точность движений характерны для него не только во время исполнения тихой и полупустой пьесы Шиаррино. Я видел Анцеллотти несколько раз на сцене и каждый раз изумлялся его сконцентрированной неподвижности и его стремительным движениям мастера сверхконтроля.
Кстати, в обычной жизни он производит вполне живое впечатление, он улыбается, смеётся, пожимает плечами.
Мой собеседник настаивал на том, что музыка, не заваливающая слушателя потоком информации, музыка немногословная, требует такого же и поведения исполнителя. Он сказал, что в этом есть что-то буддийское – неподвижно сидеть в состоянии полной концентрации, ожидая, когда надо будет начать звук, приготовить себя к извлечению звука, начать извлекать звук, слушать его приближение, дать ему исчезнуть.
Но такого к себе отношения требует конкретная пьеса конкретного композитора. Анцеллотти рассказал, что прямо перед нашим интервью он записал сорокаминутную пьесу японского композитора Хозукавы: «Это сорок минут грохота аккордов, растягивания взад-вперёд мехов, это физическая работа, заставляющая исполнителя выходить из себя. Аккордеон прыгает на колене как дикий зверь. Движения быстрые, большие, размашистые, дикие. После такой музыки болят мышцы».
Я не то что не поверил Теодоро Анцеллотти, но скорее решил, что мы употребляем одни и те же слова в разных смыслах. Я перерыл стопку компакт-дисков маэстро, и пришёл к выводу, что и в самых энергичных моментах он остаётся тем же самым буддой с аккордеоном, готовящимся к появлению звука.
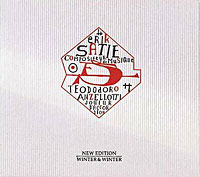
Erik Satie - Compositeur de Musique
Teodoro Anzellotti - Jouer d’Accordeon (Winter&Winter, 1998)
Компакт-диск, содержащий переложения для аккордеона пьес, написанных для фортепиано, называется не без ехидного бюрократизма: «Эрик Сати – сочинитель музыки, Теодоро Анцеллотти – исполнитель на аккордеоне».
Несомненный хит - Гносьенн номер один, следующие Гносьенны тоже очень хорошие.
Звук аккордеона Теодоро Анцеллотти развивается слоями, напоминая хор или оркестр. Каждое появление и исчезновение каждого звука чётко очерчено, даже самые тихие звуки хорошо слышны. Царят спокойствие, ясность и отчётливость.
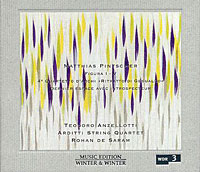
Matthias Pintscher
«Figura I-V für Akkordeon und Streichquartett.
4° Quartetto d'archi »Ritratto di Gesualdo«
Dernier espace avec introspecteur»(Winter&Winter, 2004)
Сочинения современного (и ещё достаточно молодого) немецкого композитора Маттиаса Пинчера для струнного квартета и аккордеона.
Музыку описать сложно, она не минималистическая и вполне «современная». Иногда она тихая, напряжённая и звенящая, сложно понять, какие именно инструменты играют, звон плывёт и меняет свой тембр. Иногда струнные взрываются резкими и колючими фигурами. Иногда эти резкие фигуры струнных тихи, приближаясь к шорохам, скрипам, потрескиваниям.
Всё очень напряжённое, упругое и лаконичное. И вполне осмысленное.
З В У Ч А Н И Е
Я выражаю своё изумление, что аккордеон Теодоро Анцеллотти звучит по разному в разных регистрах, буквально как различные инструменты: бас насыщенный и мягкий, чуть выше начинается некоторая деревянность, высокие звуки напоминают звуки медных духовых, и в самом верху палитры находится звон, очень похожий на тонкое жужжание скрипки. Эти звуки не только имеют разную окраску, но и ведут себя, кажется, по разному. Оттого звучание аккордеона порой напоминает оркестр. Когда аккордеон играет с другими инструментами, он может очень близко приближаться к ним, почти сливаясь то со скрипкой, то с виолончелью, а потом отодвигаться, наполняясь воздухом, чего струнные, конечно, делать не могут.
Оттого я спросил Анцеллотти, в самом ли деле он может менять тембр звука.
«Во-первых у каждого инструмента по его природе низкие тона звучат темнее, а высокие тона - светлее, серебряннее. То же самое и у аккордеона.
В определённой степени этим можно управлять, так что разница в окраске звука будет не такой заметной или же, наоборот, делать её очень сильной.
Окраска звука при игре на аккордеоне играет решающую роль.
Во-первых, в нашем распоряжении есть регистры, одни звучат темнее, другие светлее, мы можем их комбинировать.
И во-вторых, что я считаю куда более важным, мы имеем дело с воздухом, который мы гоним мехами. Это атака воздуха. От того, как именно ты продавливаешь воздух сквозь инструмент – выдавливаешь воздух наружу или наоборот набираешь его, – зависит качество звука.
Можно даже говорить о соответствии движения упругого воздуха движению звука. Можно получить мягкий звук или жёсткий, можно где-то поставить акцент, можно заставить звук идти толчками – пунктиром. Звук может быть цветущим, округлым, угловатым, острым... Всё это делается посредством контролирования потока воздуха. Скрипач делает нечто подобное смычком, трубач – своим дыханием, я – мехами.
Это именно то, что определяет индивидуальность аккордеониста, индивидуальный характер его игры.
Ведь аккордеон... и я говорю это своим студентам в самом начале наших занятий... у аккордеона самого по себе – на редкость механический характер.
Во многом это оттого, что аккордеон – это и клавишный инструмент.
Ты равномерно растягиваешь меха и ритмично нажимаешь клавиши, звучит это механически – именно так звучит аккордеон на улице, как механическое приспособление, как машина.
Интересно становится, когда удаётся уйти от этого механического подхода. В этом случае звучание аккордеона становится изменчивым и гибким, его можно обрабатывать, модулировать, влиять на окраску звука, на прозрачность звука, на насыщенность звука, ставить тот или иной акцент.
И на самом деле именно в этом и состоит сложность игры на аккордеоне, именно это и требует больше всего усилий. Вовсе не скорость игры, не количество звуков в единицу времени, не виртуозность бегания пальцами по клавишам... Потому что наличие клавиш соблазняет исполнителя ориентироваться на стремительность и виртуозность пианиста».
В И Р Т У О З Н О С Т Ь
Мы добрались до темы виртуозности. Все прочитанные мной рецензии сходятся в одном: Теодоро Анцеллотти - несравненный виртуоз. При этом виртуозность – далеко не всегда комплимент. Я спрашиваю моего собеседника, в чём состоит его виртуозность, бывают ли разные виртуозности, можно ли говорить, что у него какая-то другая виртуозность?
«Да, да. Это так у каждого инструмента. Само собой разумеется, что нужно быть технически в состоянии легко воспроизводить сложнейшие, труднейшие, запутаннейшие, быстрейшие пассажи. Так, что никто вообще не заметит наличие каких-то сложностей.
У тех, кто ещё не достиг виртуозности и должен ещё много упражняться, ты сразу чувствуешь: боже мой, как же сложно то, что он играет!
У большого виртуоза ты вообще почти ничего не замечаешь, всё идёт как по маслу, сложнейшие вещи выскакивают сами собой, как в сметане купаются.
Конечно, тут тоже нельзя допускать однобокости – иногда музыка должна быть дикой и напряжённой, и это должно чувствоваться.
Но ясно, что нужна акробатика пальцев, без неё никуда.
Но виртуозность – не только это.
Для хорошего музыканта виртуозность – это широкий выбор красок звука. Не одна-две-три, которыми раскрашивается любая пьеса, но необозримо много, более того – способность постоянно придумывать новые и новые.
Сюда же относится и интеллигентная, осмысленная интерпретация.
Некоторые произведения предполагают, что исполнитель не движется, в других предпочтительна экстатическая игра, почти истерика. Другой аспект: когда произведение многослойное, полифоническое, то может иметь смысл усиливать ясность, прозрачность, артикулированность, бросая свет то на одно, то на другое, распутывая сложный узел.
У виртуозности есть много аспектов».
Анцеллотти сказал, что нельзя относиться к игре на аккордеоне как к чему-то хорошо известному и предсказуемому (и это, как он не уставал подчёркивать, верно для любого инструмента). Заранее не известно, как та или иная музыка зазвучит на аккордеоне, музыку к аккордеону приходится прилаживать, долго экспериментируя и перебирая различные варианты. И в этом – одна из, так сказать, объективных причин виртуозности, то есть необходимость добиваться ясности и прозрачности в новой акустической ситуации.
Анцеллотти рассказал, что ему предложили выступить на одном фестивале, исполнив пассажи из опер Рихарда Вагнера. Есть переложения партитур Вагнера для фортепиано, а с фортепиано можно перенести на аккордеон. Но механически это не функционирует, Анцеллотти вовсе не был уверен, что у него получится что-то осмысленное, но вроде бы дело пошло.
Бывало и так, рассказал он, когда он был уверен, что версия на аккордеоне ему не удастся, но она удавалась. Бывало и так, что что-то получилось только через пять лет после первой попытки переноса музыки – когда накопилось достаточно опыта и больше хитрости.
«Тут вот что ещё важно. Я говорю сейчас не о себе. Естественно, традиция аккордеона появилась из коммерческой музыки. И соответствующие представления до сих пор доминируют во многих головах. Я имею в виду, что на аккордеоне очень эффективно можно сыграть и серьёзную музыку, и классическую, и некоторую современную, кое у кого (я осторожно скажу – у очень многих) есть желание играть серьёзную музыку так же как играют уличную – ярко, звучно, броско, быстро, но на самом деле – банально.
И вот тут в рамках этой банальной и коммерчески ориентированной позиции появляется стремление к виртуозности, это своего рода цирк.
Кстати, эта цирковая виртуозность на самом-то деле и не так сложна, она хорошо звучит, она стереотипна: быстрое движение правой руки, левая играет сопровождение.
Я вовсе не выношу приговор, такая игра тоже принадлежит аккордеону. Если это кому-то нравится, если это кого-то убеждает – так это его дело. Я так тоже иногда играю – развлечения ради.
Неделю назад я давал концерт в Женеве. Я играл три пьесы: Лучиано Берио, Софьи Губайдуллиной и Дьёрдя Лигети. А между ними я вставил виртуозно-эстрадный номер. Это был концерт и одновременно разговор, я говорил пару слов перед каждой пьесой. И вот перед пьесой Лигети я вставил ярко-виртуозный номер. И было очень интересно видеть, откуда пошла игра на аккордеоне, что в аккордеоне, как правило, ценится и используется. Остальные пьесы эта вставка вовсе не разрушила».
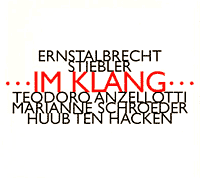
Ernstalbrecht Stiebler
«...im Klang...» (Hat, 1998)
Теодоро Анцеллотти играет пьесу немецкого композитора Эрнстальбрехта Штиблера «Im Klang», то есть «В звуке», на CD всего три композиции, две остальные – для фортепиано и органа.
Пьесы Штиблера – это долгие зависания на одной ноте, на одном звуке.
По своему духу эта музыка родственна американскому минимализму. Она скупа, прозрачна и одновременно монументальна.
Будучи исполненной на аккордеоне, эта музыка приобретает хрупкость и человечность. Жанр негромких гуделок и дребезжалок нещадно эксплуатирован средствами электронной музыки, гуделки и дребезжалки очень редко могут сохранять интенсивность и привязывать к себе уши слушателя. Уши слушателя быстро распознают повторяющиеся звуки и пассажи и начинают заметно вянуть.
Пьеса Эрнстальбрехта Штиблера в исполнении Теодора Анцеллотти – один из удачных примеров крайнего минимализма и самоограничения.
О Б Р А Б О Т К И
В чём состоит ваша интерпретация, скажем, Сати? Вы вносите в музыку какие-то изменения?
«Прежде всего – я играю точно то, что стоит в нотном тексте. Но при этом необходимо, я подчёркиваю – необходимо, адаптировать музыку для своего инструмента. Я не могу играть так, как играют на фортепиано, я должен внимательно слушать: возможно, я раньше оборву какой-то звук, чтобы не возникло излишнего напряжения или толкотни, я спрашиваю себя: важна ли мне в этом месте прозрачность или скорее напряжение? Перенос музыки на иной инструмент означает для меня массу решений такого сорта – как я проведу линию звука, как я её оборву или заглушу, как я что-то подчеркну или выделю... Масса решений. Потому что мои средства артикуляции звука – совсем иные чем у пианиста.
Таким образом я вмешиваюсь в текст партитуры. Не в том смысле, что я меняю высоты нот, но я меняю артикуляцию, динамику, плотность. Должна возникнуть музыка для аккордеона, должно быть впечатление, что эта музыка для аккордеона и написана.
И этот эффект не возникает автоматически: взял аккордеон, раздул меха, сыграл написанные ноты и получилась музыка. Никак нет. Приходится придумывать ответы на миллионы вопросов, заниматься миллионом деталей. И прежде всего стараясь не разрушить текст, не сломать музыку, которую написал композитор».
Вы занимаетесь трудоёмким делом интерпретации музыки, написанной для других инструментов, не из-за нехватки музыки для аккордеона?
«Нет-нет, именно поэтому. Это важная причина. Для аккордеона хорошая оригинальная литература начала появляться всего несколько десятилетий назад, то есть это музыка второй половины 20-го столетия. Музыки предыдущих эпох вообще нет! Из эпохи классики или барокко нет ничего. Из эпохи романтики есть немного для родственных инструментов – для гармоники или концертино. Это означает, что если я хочу воспользоваться своим нынешним опытом для взгляда на старую музыку, я вынужден заниматься переложениями.
Для меня лично эти обработки – своего рода приключения».
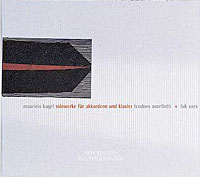
Mauricio Kagel
Solowerke (Winter&Winter, 1998)
Компакт-диск с сочинениями Маурисио Кагеля для солирующих аккордеона и фортепиано.
На CD присутствует пьеса «Episoden- Figuren», которое во многом звучит как банальная музыка для аккордеона, многие пассажи узнаваемы, они типичны для аккордеона, но каждый раз что-то оказывается не тем, не там, не на своём месте. Необычная музыка собрана из обычных звуков.
июнь 2005