
Некоторое время назад в Кёльне, Франкфурте и Дюссельдорфе дал концерты живущий в Лондоне Радован Сказаша. Он – хозяин лейбла Dreck Records и двух проектов AM/PM и Secondo.
AM/PM – печальный эмбиент, Secondo – куда более решителен и настойчив.
Радовану около 30.
Его мать приехала в Швейцарию из Югославии, его отец – итальянец. Оттого имя у него славянское, а фамилия итальянская.
Радован родился в Цюрихе. В детстве учился играть на фортепиано. Его музыкальная карьера началась в детстве же, в возрасте 11 лет он стал клавишником рок-группы. Играла она, как я понял, полуфанк-полусинтипоп. В начале 90х Радован взялся за техно, в Цюрихе каждый уик-энд буйствовали техно-парти. В 95-м начали выходить его техно-пластинки.
Вот уже как шесть лет он живёт в Лондоне. Он поехал туда чтобы работать в качестве архитектора, Радован – дипломированный архитектор.
«То, что меня очень интересует – и в проекте AM/PM и в проекте Secondo – это цитирование. Я работаю с семплами... исключительно с семплами.
Мне интересно находить в старой музыке вещи, которые, скорее всего, никто никогда не слышал.
В проекте AM/PM это финалы музыкальных произведений, последний затихающий звук композиции. Обычно человек слушает произведение целиком, а последнюю пару секунд не замечает, отзвучавшая музыка просто растворяется в тишине.
Какие произведения я брал?
Все возможные: классика, поп, джаз, техно, всё.
Я не знаю, как мне пришла эта идея. Когда-то я начал слушать финалы и заметил, что в них можно найти много интересного. Я несколько лет собирал свою коллекцию финальных звуков.
В моих треках они воспроизведены один к одному, то есть никакими эффектами не обработаны и по высоте тона не изменены.
На самом деле, я вырезаю даже не сам последний звук, а затихание звука. Иными словами, то, что идёт сразу после атаки, после резкого удара.
Эти звуки кажутся такими многослойными, потому что во многих случаях последний затихающий звук оркестра – это звук одновременно большого количества инструментов, взявших последнюю ноту. Это богатый звук, в нём очень много спрятано. Но узнать, что именно спрятано – невозможно, потому что это не столько звук, сколько его расплывающееся эхо».
Но в твоих треках бок о бок существуют, очевидным образом, разнохарактерные акустические уплотнения.
«Это финалы, взятые из разных источников. У каждого такого финала – свой собственный цикл повторения, несинхронизированный с другими. Иногда звуки приближаются друг к другу, иногда – раздвигаются».
Сколько таких финалов используешь ты для одного трека?
«О, совсем по-разному. От четырёх-пяти до иногда 15. Но как правило, 6-7. Я стараюсь обходиться как можно меньшим количеством исходного материала».
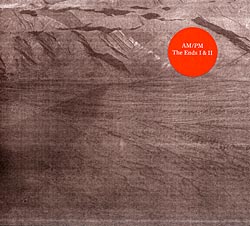
Есть ли в этих финальных звуках что-то, что их все объединяет?
«Я сразу обратил внимание на то, что когда финал отделён от музыки, когда основного тела музыки нет, то невозможно догадаться, как звучало произведение, что это была за пьеса или песня. То есть их объединяет анонимность.
К тому же оказалось, что все финалы имеют схожий характер, их можно легко друг с другом смешивать. Последняя секунда классической пьесы прекрасно сочетается с последним звуком поп-песни.
Возможно, эти звуки объединяет то, что они меланхоличны.
Мы ассоциируем с затихающими, исчезающими звуками меланхолию и мысли о том, что всё проходит, всё кончается.
Но мне было интересно эти звуки зациклить – то есть то, что кончается, кончается двадцать раз. Это зависание в моменте конца. При этом конец так и не оказывается концом, он возвращается и возвращается.
Тут проявляется мой интерес к восприятию времени – как с помощью музыки можно растянуть время, изменить его ощущение.
Конец – это момент времени. И если ты этот момент повторяешь вместе с паузой, то возникает неопределённость: не ясно, что именно сейчас происходит – время стоит на месте? что-то всё время возвращается? что-то движется вперёд?
Это так меня занимающее ощущение остановки времени во многом зависит от размера паузы между повторениями звука».
Ты собираешься всю жизнь делать музыку из финалов?
«Нет, планов таких у меня нет. Возможно я сделаю ещё несколько треков в рамках этого проекта, скажем, ещё один альбом... Проект AM/РМ начался как концепция, но по ходу дела я многому научился. Конечно, теперь мне опять хочется открыть для себя что-то новое».
Почему ты вообще занимаешься репетативной музыкой, то есть такой, которая состоит из повторяющихся элементов?
«Мне в целом куда больше нравится репетативная музыка, чем нарративная – то есть рассказывающая некоторую историю, как, скажем, песня.
Мне ближе музыка которая создаёт настроение, а не та, которая что-то рассказывает».
Но что значит «музыка рассказывает историю»? Мир музыки далеко не ограничивается песнями. Если тебе не хочется сочинять музыку, которая предполагает последовательную смену сцен и состояний, то это вовсе не значит, что ты должен делать статичную музыку, музыку, состоящую из одних повторений. Есть много разных возможностей.
«Это верно. Минималистически устроенная музыка – это лишь один из методов. Есть и другие.
Один из важных факторов – простота изготовления. Искусство вовсе не должно быть сложно изготовленным, оно вполне может быть простым. Когда нечто сделано просто, это притягивает.
Кроме того, меня завораживает повторение само по себе. С тех пор как оно было введено в западную музыку такими композиторами как Терри Райли и Стив Райх, оно стало частью нашей культуры. И в последние десять лет, в связи с развитием техно репетативная музыка стала само собой разумеющимся делом. Можно сказать, что возникла параллельная музыкальная культура, параллельная к традиционной западной музыке.
Я не ставлю это обстоятельство под вопрос. Возможно, стоило бы.
Но из того, что музыка из повторяющихся элементов звучит для меня естественно и никакого оправдания не требует, вовсе не следует, что я только такую музыку всё время и буду делать. Может статься, что мой следующий диск окажется совсем другим – без повторений».
Имеет ли твоя музыка какое-то отношение к твоим занятиям архитектурой?
«Нет, я не думаю. Параллель между музыкой и архитектурой часто упоминается: дескать, в музыке повторяются семплы, а на фасаде дома – окна. Но это очень формальное сравнение.
Для меня параллель между музыкой и архитектурой, скорее, находится в области концептуального мышления. И при этом важна не сама архитектура, сколько подход к ней.
Что такое концептуальное мышление?
Это значит, что ты начинаешь работать, имея в голове некоторую идею, а вот как будет звучать результат, ты при этом ещё не знаешь. Надо шаг за шагом реализовывать идею и смотреть, что получается. Может быть, что и ничего не получится.
В самом начале моих проектов AM/PM и Secondo стояли именно идеи. Со временем эти проекты отдалились от первоначальной идеи, добавилось много нового... я не хранил догматическую верность самой первой идее.
В AM/PM первоначальная идея была делать музыку из последних звуков чужих композиций. В проекте Secondo идея была такая: я делаю свой трек из какого-то одного чужого трека. Из одного-единственного.
Каждый трек проекта Secondo состоит из сотен семплов, вырезанных из какой-то одной песни. Размер применяемого фрагмента – десятая или пятая доля секунды.
Что меня при этом заинтересовало? Когда ты берёшь пятую часть секунды, это уже не музыка, ничего узнать в таком фрагменте невозможно, это просто кусочек шума.
Я подумал, можно ли из этих крошечных фрагментов собрать музыку, которая звучит плавно и связно?
Привлекательность этого подхода в том, что возникает новая музыка, которая не имеет ничего общего с оригиналом – ни ритмически, ни мелодически. В каком-то смысле характер оригинала присутствует и в новом треке... как приведение, которое витает над музыкой. Но все события – совершенно новые».
Как ты управляешься с сотнями крохотных аудиопылинок? Не может быть, чтобы ты их вручную приставлял одну к другой.
«Отчасти я составлял их случайно, я применял и различные методы, чтобы собрать их вместе. Каждую пятую долю секунды стартует новый семпл. Да, это очень много работы.
Я много раздумывал над тем, как бы мне этот процесс автоматизировать, но я не очень преуспел – программировать распределение семплов оказалось ещё сложнее, чем составлять их вручную».

В треках твоего проекта Secondo ясно различимы повторяющиеся блоки, однако они не повторяются совершенно точно. Накапливаются изменения, что-то незаметно глазу меняется... у тебя должен был быть како-то метод работы.
«Для грампластинки, которую ты держишь в руках – это треки «Watch What You Are saying» и «Liber Tango» я применил алгоритмическую процедуру. Это только звучит сложно.
Метод выглядит вот как: я запускаю первый короткий семпл с большими – в несколько секунд - паузами между его повторениями: так..... так....
Это семпл запускает другие семплы, которые стоят в определённых местах паузы. Я могу регулировать, где именно возникают семплы и что это за семплы.
Между ними всё равно остаётся много пауз. Они заполняются в свою очередь другими семплами.
И так далее, пока все паузы не будут заполнены. Можно представлять себе этот процесс в качестве цепной реакции – я стартую один семпл, а он несколько других. Каждый из них – несколько новых и так далее.
Глубина цепной реакции – пять шагов.
Место каждого семпла внутри окружающей его паузы определяется в соответствии с простой формулой. Это логарифмический закон.
Таким образом получаются самые интересные в ритмическом отношении вещи. Но при этом я не имею контроля над каждым отдельным звуком, то есть вся структура в целом обладает некоторой инерционностью, вязкостью. Я меняю лишь несколько параметров моей формулы и смотрю, какая музыка возникла. Если я что-то чуть-чуть меняю – меняется многое во многих местах одновременно».
При этом твоя музыка сохраняет грув?
«Да, конечно. Но вовсе не должно казаться, что такая алгоритмическая процедура работы сама собой генерирует грув, нет-нет, никаких законов грува я не открыл. Я долго ищу, подбираю, пробую, постоянно что-то меняю.
Вся работа начинается с постоянно повторяющегося звука, оттого музыка выходит заведомо ритмичной, в ней есть понятие такта. Остальные элементы либо движутся с основным звуком, либо от него отклоняются, образуя собственные ритмы. От этого и возникает грув.
Наверное, надо добавить, что сначала я собирался работать именно с помощью такой вот алгоритмической машины, но со временем я стал добавлять в музыку и иные элементы – то есть мой концептуальный подход со временем теряет свою жёсткость. Я начинаю очень формально и концептуально, но когда меня результат удовлетворяет, я становлюсь более уверенным и оттого свободным. Сегодня я постоянно нарушаю те правила, которые сам для себя сформулировал, то есть выхожу за границы концептуальных рамок. Но я по-прежнему считаю, что очень важно начинать работу в рамках жёсткой концепции. При этом ты очень многое осваиваешь и начинаешь понимать».
Ведя речь о той или иной музыке, я постоянно обращаюсь к пространственным метафорам и называю музыку, скажем, то плотной, то прозрачной. В ней есть передний и задний план. Что-то давит. В ней есть просветы и несущие конструкции, и много что ещё.
И вот ты - профессиональный архитектор, который занимается к тому же музыкой – говоришь, что сравнение архитектуры с музыкальным произведением поверхностно, смысла в нём нет.
«Кто это сделал? Э-э-э... Бернард Шуми (Bernard Tschumi), довольно известный архитектор. Он построил в Париже парк – Парк Де ла Вилетт, структура которого якобы соответствует музыкальному произведению, Скажем, одно здание – это бас-инструменты, другие элементы пейзажа символизируют другие аспекты музыкального произведения...
У него получился курьёз, никакого внутреннего содержания там нет.
Конечно, вполне возможно описывать музыку в пространственных терминах, мы все понимаем, что при этом имеется в виду, но как мне кажется, это относится к любой музыке. То есть всякая музыка создаёт некоторое пространство.
И, по-моему, композиторы или исполнители об этом вообще не думают, они воспринимают музыку по-своему, в своих терминах, сквозь призму своих задач и методов, а пространственный эффект получается уже при её исполнении.
Думали ли композиторы, писавшие струнные квартеты или многоголосые произведения для хора, о том, что мы сегодня склонны описывать их музыку в терминах каких-то своеобразных пространственных ситуаций? Я очень сильно в этом сомневаюсь».
январь 2005