Чем нам дорога (или лучше сказать – ещё совсем недавно была дорога) электронная музыка? Тем, что она другая, грубо говоря, не такая, как всё остальное. На электронной музыке большими буквами написаны слова «сопротивление» и «отрицание». Казалось бы.
Когда же стало понятно, что электронная музыка в массе своей - не более чем средство протащить берущие за душу мелодии и ритмы, то есть ценности ABBA и Rolling Stones, её особость стала казаться сомнительной.
Дело вовсе не в том, что мелодии или слова о любви плохи сами по себе. В песнях о любви плох, грубо говоря, их глобализм, их понятность и доступность во всех без исключения уголках мира. Я вспоминаю старую советскую телепередачу – показывали лесных разбойников, охраняющих переправку опиума из так называемого «золотого треугольника» в Бирме.
Парни, с автоматами Калашникова между голых коленок, сидят на трёхногих табуретах, пьют чай, на проигрывателе вертится сорокапятка... Кадр длился всего секунды две, но я успел понять, что они слушают «Yellow Submarine» The Beatles.
Меня как громом ударило. Я вдруг понял, что The Beatles – это примерно то же самое, что Майкл Джексон или МакДональдс, что произошло глобальное по своим масштабам осеменение народных душ Битлами. Возник единый эталон качества, единая система мер и весов.
И когда сегодняшняя электронная музыка, похоже, опять начинает видеть свой идеал в песнях The Beatles, мне становится тошно и неинтересно. Впрочем, ту же самую тоску нагнетает и совсем немелодичная музыка - электронный шум и свист, пресловутые clicks’n’cuts, которые по одному рецепту делают люди, удалённые друг от друга на многие тысячи километров.
Мне кажется в высшей степени подозрительным, что так далеко друг от друга находящимся людям – выросшим в разных странах, в разных культурах, в разных социальных ситуациях - хочется выражать себя настолько нетворческим образом, по общему стандарту.
Понять эту ситуация несложно: можно было бы сказать, что мы имеем дело с естественным развитием семплирования. Семплирование из частного технического приёма использования чужого аудиофрагмента в своей композиции выросло сначала до использования всеми одних и тех же аудиофрагментов, а потом дошло уже до использования чужих технологий и даже чужого видения. Впрочем, эти технологии и чувства, которые будят продукты, по ним сделанные, никому никогда не принадлежали, они и были созданы для массового использования.
Что же делать музыканту, который хочет сопротивляться? Не очень понятно. Но понятно, что интересны коварные стратегии ответа на унификацию творческих процессов.
Если делать «свою собственную» музыку – то это приводит к появлению клонированных Битлз. А если делать не «свою собственную» музыку? То есть делать узнаваемую всеми музыку, но играть её именно как чужую, не маскировать её иноземного происхождения?
Мы попадаем в сферу кавер-версий и стилистических гибридов, которые с перепугу кем-то могут восприниматься как экзотический и несамостоятельный этно-поп, но мне кажутся вызовом глобальной матрице, вшитой в наши гипоталамусы.
Проект 386 DX (easylife.org/386dx) продвигает московский художник Алексей Шульгин. 386 DX – это морально устаревшая разновидность персонального компьютера: у него мало памяти, он медленный... но, тем не менее, он обладает всеми отличительными чертами искусственного мозга.
Алексей Шульгин записал уже два альбома, оба состоят из кавер-версий, первый альбом – англоязычных рок-стандартов «The Best Of», второй – русскоязычных. Второй альбом, который называется «Легенда русского рока», объявлен альбомом года. Объявил симпатичный журнал «КонтрКультУр’а» (#5 (13) 2002, красный такой, к журналу приложен компакт диск с «Легендой»). В журнале находятся несколько статей о феномене 386 DX и два разговора с музыкантом. Там можно найти очень много справедливых и точных суждений – о самых разных вещах. Искренно рекомендую.
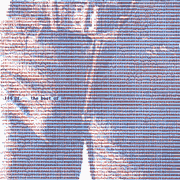
Что это такое? Как это сделано? Зачем это сделано? Как это выглядит на сцене? Как к этому следует относиться?
Проще всего сказать, как это сделано.
В интернете несложно найти МИДИ-файл практически любой мало-мальски известной песни (кроме, почему-то «Анархии в UK» Sex Pistols). МИДИ-файл – это аранжировка песни, несколько слоёв нот. Только ноты эти – не обычные, а МИДИ-ноты, фактически – компьютерные команды. Каждая нота включает синтезатор так же как рубильник включает свет, а потом его выключает. В принципе, к каждой ноте приписан свой музыкальный инструмент, но звуковая карта морально устаревшего компьютера синтезирует все инструменты примерно с одинаковым заунывным металлически-электронным тембром.
Для тех песен, для которых не было МИДИ-файлов – то есть для «Анархии в Соединённом королевстве» и для всех легенд русского рока – Алексей заказал аранжировку.
В кратком описании его творческий процесс предстаёт как на редкость механический – взяли файл, засунули в старый компьютер, получили музыку, но, читая интервью Шульгина, я заключил, что создание песни для 386 DX – это довольно трудоёмкий процесс. Далеко не каждая песня начинает убедительно звучать в такого рода подаче. Возникает масса проблем, связанных с ритмом, тембрами, басом, панорамой звука, голосом...
Одним словом, ручное производство.
Второй (русский) альбом звучит куда интереснее и, я бы сказал, кошмарнее.
Первый (западный) воспринимается ещё как шутка, версии компьютерного неандертальца звучат как нестройный оркестр электроклавесинов, то есть без особого грува и напора... настоящая машинная музыка.
Русский альбом, наоборот, производит прямо противоположное впечатление. Все участники круглого стола журнала «Контркультур’а» сходятся на том, что отечественные вещи в исполнении 386 DX звучат резче, больнее и инициативнее, чем оригиналы. По-видимому, именно таким и должен быть эффект – тупая машинная музыка, которая звучит проникновеннее и эмоциональнее, чем заезженный до смерти оригинал.
Во всех песнях можно узнать тембр голоса, но это не тембр голоса Алексея Шульгина. Компьютерная программа озвучивает записанный текст, переводит текст в звук. Характерно, что программа понимает только английский текст, поэтому русскую фонетику Алексею – не без помощи профессионального филолога – пришлось записать латинскими буквами по правилам американской транскрипции. Скажем, русский звук «р» изготовлен из трёх букв «g» и двух «r», идущих одна за другой («grgrg») – от этого компьютер запел хрипло и басовито. «Для каждой закодированной таким образом фонемы указывается нота и длительность. Если вы смотрели фильм Кубрика «Space Odyssey 2001» - там тоже компьютер поёт», - написал мне Алексей Шульгин в своём и-мэйле.
386 DX родился как художественный проект, то есть как идея, воплотившаяся в железе. Идея состояла... точнее, сейчас в интервью Алексея Шульгина можно найти много идей и комментариев, и я не знаю, какая мысль была самой первой. Так вот, одна из идей – идея компьютерного мозга. Компьютер универсален, компьютер можно сравнить с человеком, то есть компьютер вполне может и попеть, у него есть всё, что для этого надо. Но поскольку это морально устаревший компьютер, на котором идёт Windows 3.1, то это не столько человек будущего, сколько бомж. Художник устанавливал свой компьютер на Арбате – прямо на асфальте, компьютер – уличный музыкант – играл музыку, клянчил деньги – на экране загорался соответствующий текст, и даже выдвигал трэй читалки компакт-дисков, куда можно было бросать монетки. Монетки уплывали вовнутрь и там со звоном падали. Свистящий ретро-шлягеры (типа «Бэсаме мучо») компьютер был выставлен и на нескольких выставках современного искусства.
Для Алексея Шульгина очень важен момент дешевизны производственного процесса, примитивности использованных средств. Дело в том, что современное искусство – да и электронная музыка – высокотехнологичны. Широко распространено воззрение, что техническое отставание заведомо обрекает художника к дилетантизму, кустарщине и вообще – моральной устарелости. Что, конечно, неверно. И именно в этом, мне кажется, и состоит идеологическое значение проекта 386 DX.
386 DX – явление уникальное для российского рока и электроники. «Уникальное» в буквальном смысле этого слова – этого не делает больше никто. Идея реализована таким образом, что начать ей подражать, скажем, под предлогом улучшения и развития – глупо. Просто не имеет смысла.
И это, повторюсь, крайне важный момент – у проекта 386 DX не просто своё моментально узнаваемое звучание, но своя причина делать музыку, своя кочка, с которой музыкант на музыку (и на нас слушателей) глядит.
Так, а что же слушатели?
Проект 386 DX начинался как обычная инсталляция: кинул взгляд и проходи мимо. Потом Алексей вышел на сцену, держа в руках клавиатуру – его присутствие на сцене на звук никакого влияния не оказывало, но слушатели явно хотели видеть живого человека, из души которого идёт эта компьютерная музыка. Дело явно запахло успешной конкуренцией с актуальным роком. Под музыку 386 DX мальчики и девочки стали заводиться, трястись, тянуть к сцене руки.

Любопытным образом, подобной же трансформацией сопровождалось и появление такого художественного явления как поп-арт (конец 50-х – начало 60-х годов). Продукция Энди Уархола традиционной живописью, вообще говоря, не была, и даже претензий таких не имела – многие поп-артисты зарабатывали на жизнь рисованием огромных рекламных транспарантов, то есть были художниками-оформителями, они перенесли свою технологию, а также темы в сферу авангардного искусства. А «настоящей» живописью в то время называли возвышенный и виртуозный абстракционизм.
Неожиданным образом, публика живо отреагировала на поп-арт, никакой особой подделки или обмана в нём не обнаружила, и за дилетантскую мазню по трафарету его не сочла, наоборот – сочла его за настоящее глубокое и выразительное искусство. Вообще говоря, Алексей Шульгин предпринял поп-артистский ход.
В любом случае понятно, что проект 386 DX можно рассматривать в довольно широком контексте.
Алексей Шульгин совершенно справедливо отмечает, что когда на FM-радио много лет вперемешку идёт «классика рока» (Led Zeppelin) и «классика попа» (Мадонна), разница между ними стирается, тем более сама Мадонна, как оказывается, с детства не могла жить без Led Zeppelin и Джими Хендрикса.
Все музыкальные явления – от героически контркультурных до пластмассово-массовых – вдруг уравниваются в правах. И в саунде. В головах слушателей всё это – примерно одно и то же.
Вот и получается, что 386 DX – это адекватная музыка эпохи, когда нет разницы между Мадонной и Led Zeppelin. Для тех, кто жил в 70-х, мы – биороботы, инопланетяне, а они – инопланетяне для нас. Потому так и звучат. А нам нравится.
Я как-то брал интервью у человека, который в первый раз привёз Нирвану в Германию, он присутствовал на первых концертах группы: в смысле драйва и безумия они не походили ни на что иное. Свежий рок конца 80-х уже через пять-шесть лет выдохся и превратился в пустую форму, в набор механических нот. Сложно сказать, в чём именно тут дело – то ли ярости не хватает надолго, то ли многократное повторение превращает вспышку безумия в театр, то ли публика быстро пресыщается.
Я боюсь, что музыку прошлых эпох по другому и не сыграешь, она сама собой быстро мутирует в электро-поп.
Алексей Шульгин часто упоминает, что в его интерпретации существует и опус Иоганна Себастьяна Баха.

Итак, публика беснуется под псевдо-Нирвану. Алексей сделал гуманный жест и модифицировал свою внешность, то есть стал походить на рок-звезду в старом стиле: длинные волосы, кожаные штаны. Клавиатура висит на широком ремне. Образцовый рок-виртуоз 70-х. Музыкант выступает в прозаических майках, хотя утверждает, что мечтает о шитом блёстками кафтане – как у Джими Хендрикса. Тогда можно было бы и клавиатуру компьютера жечь на сцене.
Я послал Алексею и-мэйл с вопросом: насколько империалистичны его намерения: существует непочатая целина The Beatlles, рок-опер или таких гигантов как Queen и Deep Purple. Насколько интересно идти дальше тем же путём?
Алексей мне ответил так:
"В принципе, проект можно развивать экстенсивно - переводить в
компьютер всю мировую песенную культуру. Но меня прежде всего
интересовал рок, как нечто супер-энергичное и эмоциональное, и
экстенсивный путь мне не нравится. Хотя, я надеюсь еще вписаться в
настоящий музыкальный контекст - меня сейчас уже приглашают на
*нормальные* музыкальные концерты и фестивали, а не только на
медиа-арт события. В принципе, есть еще пара *интенсивных* идей с
поющим компьютером, но мне пока не хотелось бы их раскрывать - сначала
надо попробовать. И не забывайте про уличную версию - в Европе много
городов, и в каждом 386-й может стать городской
достопримечательностью".
Понятно, что эта музыка – не услада для ушей, не звуки заднего плана. Её надо слушать, она нам что-то говорит. То есть она не нейтральна.
Несложно заметить, что фактом своего существования она создаёт довольно парадоксальную ситуацию. Многие утверждения по её поводу на самом–то деле противоречивы. Это песни очень популярные, но много ли найдётся охотников считать их в таком виде своими? Она записана, казалось бы, примитивно, но звучит совсем неплохо, куда лучше и оригинальнее, чем большая часть современной поп-продукции.
Почувствовать, что называется, разницу, можно, послушав сборник кавер-версий «Гражданская оборона. Трибьют». Версия 386 DX (песня «Всё идёт по плану») – самая интересная, вокал – самый неподростковый, неманерный, нелживый.
По мнению автора, удачная машинная музыка получается только из очень энергичных и интенсивных рок-номеров, то есть мёртвую музыку можно сделать только из очень живой. Поэтому и результат вовсе не мёртв, это, так сказать, живой труп. Это музыка компьютерная, а мы явно слышим в ней мятущуюся душу.
июль 2002